Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца - [12]
Судьба Голике сложилась вполне благополучно. Он был человеком свободным, и это не давало Доу возможности заставить его нести такую же тяжкую живописную барщину, в которой зачах Поляков. После отъезда английского художника из России Голике поступил в Академию художеств и окончил ее в 1832 году. До конца жизни (1848) он работал в Петербурге как второстепенный портретист, получая порой выгодные заказы. Но и на Голике многолетнее копирование в доме Буланта наложило свою печать, которую не могла изгладить Академия. В 1834 году он написал автопортрет с семьей и покойным уже Доу, произведение, в котором только лица в какой-то степени удались художнику. Выполнение этого портрета свидетельствует о том, что Голике, очевидно, не питал неприязненных чувств к своему патрону. Созданный им облик Доу, вероятно, соответствует натуре: перед нами холодный, волевой человек, устремивший внимательный и жестокий взгляд на невидимую модель, которую он рисует…
Остановимся на некоторых данных, почерпнутых из послужных списков тех, чьи портреты находятся в галерее.
Во-первых, коснемся вопроса о том, скольких же человек из генеральского состава русской армии не было в живых или не состояло на действительной службе к началу работы над портретами галереи, то есть через пять лет после окончания войны. Послужные списки позволяют уточнить, что в кампаниях 1812–1814 годов были убиты или умерли от ран двадцать три генерала; за то же время скончались от болезней семь. В первое мирное пятилетие 1814–1819 годов получили отставку сорок шесть генералов, семь были отчислены от должностей, навсегда оставшись без нового назначения. В это время умерли двадцать два генерала, представители старшего поколения, – Барклай-де-Толли, Винцингероде, Гампер, Дохтуров, Платов, Панчулидзев, Ставраков, Тормасов, Шкапский, Шуханов и другие. Начав боевую службу еще в XVIII веке, они почти непрерывно продолжали ее в Молдавии и Валахии, в Богемии и Моравии, в Финляндии и других местах – всюду, где до 1812 года шли военные действия.
Во время войн начала XIX века смертность солдат от болезней в два-три раза превосходила число убитых и умерших от ран. Причинами такого положения были дурно организованное питание солдат на походе, их неудобная, тесная одежда – очень холодная зимой и мучительно жаркая летом, тяжелая ноша на марше, отвратительное состояние госпиталей. Для представителей высшего командного состава соотношение цифр оказывалось обратным. Оно и понятно: передвигались они только в коляске или верхом, зимней одеждой были обеспечены, питались хорошо, ночевали обычно в тепле и под крышей, лечили их своевременно и тщательно.
Из трехсот тридцати двух генералов, командовавших частями и соединениями в 1812–1814 годах, чьи портреты помещены в Военной галерее, восемьдесят воевали под руководством Суворова или служили под его начальством. Шесть из них в 1787 году сражались на Кинбурнской косе, трое – участвовали в 1789 году в разгроме турецкой армии при Фокшанах и Рымнике, двадцать семь – в 1790 году штурмовали Измаил, тридцать девять – сражались в 1794 году в Польше; семнадцать генералов были участниками Итальянское го и Швейцарского походов 1799 года. Некоторым посчастливилось быть соратниками великого полководца не в одной, а в нескольких кампаниях.
Для военачальников, учеников Суворова, Отечественная война 1812 года – время наивысшего патриотического подъема и полного применения накопленного боевого опыта. Но для большинства из них кампании 1812–1814 годов были последними. Начавшийся после Венского конгресса период политической реакции ознаменовался в армии поворотом к прусским традициям жестокой муштры, плац-парадной шагистики, «фрунтового акробатства» и всякого подавления инициативы – поворотом к полному забвению суворовских и кутузовских традиций. Боевые генералы, для которых солдат являлся соратником и товарищем, а не «механизмом, уставом предусмотренным», стали не нужны, их выживали «на покой» под предлогом возраста, ран и расстроенного в походах здоровья.
Просматривая данные о службе сорока шести генералов, ушедших или уволенных в отставку в 1814–1819 годах, мы узнаем, что двадцать один из них принадлежал к суворовским сподвижникам. А если прибавить к этому еще двадцать соратников великого полководца из числа убитых во время военных действий или умерших с 1812 по 1819 год, то окажется, что уже через пять лет после окончания войны с Наполеоном в армии не осталось и половины тех, кто по праву мог бы считаться продолжателем передовых традиций русской боевой школы, хотя многие из оказавшихся в отставке имели от роду всего лишь сорок пять – пятьдесят лет. Такое намеренное «очищение» рядов генералитета от лиц, имевших большой боевой опыт, и подсказанное этим опытом отношение к военному делу продолжалось и в последующие годы, уже при Николае I. А. И. Герцен писал: «Прозаическому, осеннему царствованию Николая… нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советчики, вестовые, а не воины…»
Каково же было военное образование генералов – участников кампаний 1812–1814 годов? Оказывается, что только пятьдесят два человека учились в русских военных школах, в немногих существовавших в то время кадетских корпусах.
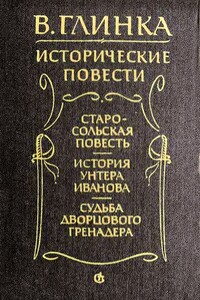
Повесть В. М. Глинки построена на материале русской истории XIX века. Высокие литературные достоинства повести в соединении с глубокими научными знаниями их автора, одного из лучших знатоков русского исторического быта XVIII–XIX веков, будут интересны современному читателю, испытывающему интерес к отечественной истории.
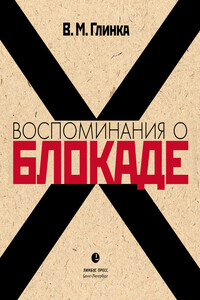
Владислав Михайлович Глинка (1903–1983) – историк, много лет проработавший в Государственном Эрмитаже, автор десятка книг научного и беллетристического содержания – пользовался в научной среде непререкаемым авторитетом как знаток русского XIX века. Он пережил блокаду Ленинграда с самого начала до самого конца, работая в это тяжелое время хранителем в Эрмитаже, фельдшером в госпитале и одновременно отвечая за сохранение коллекций ИРЛИ АН СССР («Пушкинский дом»). Рукопись «Воспоминаний о блокаде» была обнаружена наследниками В.
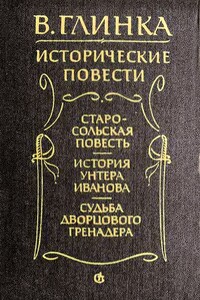
Исторический роман, в центре которого судьба простого русского солдата, погибшего во время пожара Зимнего дворца в 1837 г.Действие романа происходит в Зимнем дворце в Петербурге и в крепостной деревне Тульской губернии.Иванов погибает при пожаре Зимнего дворца, спасая художественные ценности. О его гибели и предыдущей службе говорят скупые строки официальных документов, ставших исходными данными для писателя, не один год собиравшего необходимые для романа материалы.
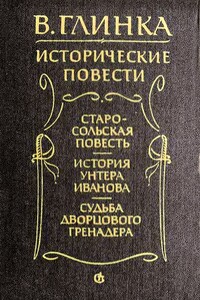
Повесть В. М. Глинки построена на материале русской истории первой четверти XIX века. В центре повести — простой солдат, находившийся 14 декабря 1825 года на Сенатской площади.Высокие литературные достоинства повести в соединении с глубокими научными знаниями их автора, одного из лучших знатоков русского исторического быта XVIII−XIX веков, будут интересны современному читателю, испытывающему интерес к отечественной истории.Для среднего и старшего возраста.
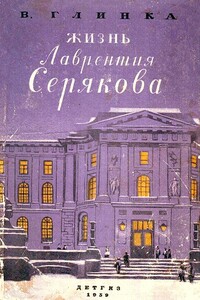
Жизнь известного русского художника-гравера Лаврентия Авксентьевича Серякова (1824–1881) — редкий пример упорного, всепобеждающего трудолюбия и удивительной преданности искусству.Сын крепостного крестьянина, сданного в солдаты, Серяков уже восьмилетним ребенком был зачислен на военную службу, но жестокая муштра и телесные наказания не убили в нем жажду знаний и страсть к рисованию.Побывав последовательно полковым певчим и музыкантом, учителем солдатских детей — кантонистов, военным писарем и топографом, самоучкой овладев гравированием на дереве, Серяков «чудом» попал в число учеников Академии художеств и, блестяще ее окончив, достиг в искусстве гравирования по дереву небывалых до того высот — смог воспроизводить для печати прославленные произведения живописи.Первый русский художник, получивший почетное звание академика за гравирование на дереве, Л. А. Серяков был автором многих сотен гравюр, украсивших русские художественные издания 1840–1870 годов, и подготовил ряд граверов — продолжателей своего дела.
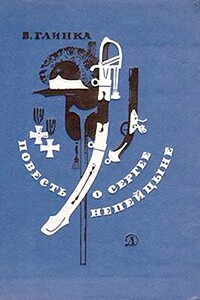
Повесть о полковнике Сергее Непейцыне, герое штурма Очакова и Отечественной войны 1812 года. Лишившись ноги в бою под Очаковом, Сергей Непейцын продолжал служить в русской армии и отличился храбростью, участвуя в сражениях 1812 года. Со страниц повести встает широкая и противоречивая панорама жизни общества в конце XVIII — начале XIX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.