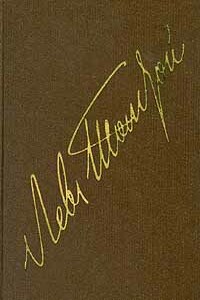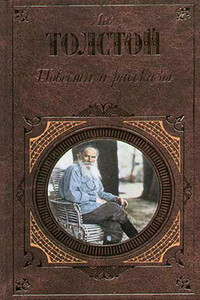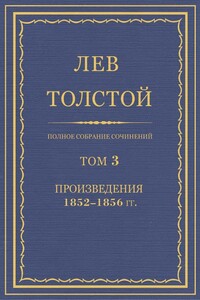— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, т. е. «что нового?»
— Хабар иок, — «нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами. — Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.
Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.
— Хорошего нового ничего нет, — заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо, — злобно прохрипел старик.
Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же, как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.
— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.
— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.
— Хорошо, — сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.
Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.
Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.
Так же, как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.
— У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.
Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:
— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.
— Брата Бату пошлю, — сказал Садо. — Позови Бату, — обратился он к сыну.
Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с чернозагорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске, с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:
— Можешь свести моего мюрида к русским?
— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.
— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат. — За труды получить три, — сказал он, выставляя три пальца.
Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...
— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат. — Веревка хороша длинная, а речь короткая.
— Ну, молчать буду, — сказал Бата.
— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?
— Знаю.
— Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи-Мурат.
— Айя! — кивая головой, говорил Бата.
— Спросить Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?
— Сведу.
— Свести и назад привести. Можешь?
— Можно.
— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.
— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.
— Еще человека в Гехи послать надо, — сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. — В Гехах надо вот что, — начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.
Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.
Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурèк — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.