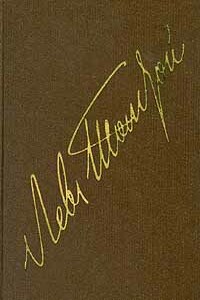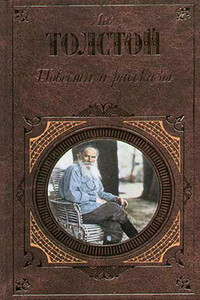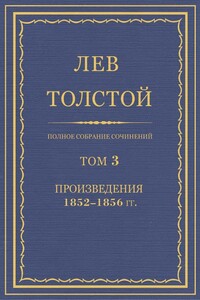— Ах, милый мой, бедный... ради бога... простите, не думайте. Ах, как мне жалко... послушайте... — говорил толстый человек с слезами на глазах.
Вспышка молодости прошла так же неожиданно, как и пришла. Ему стало совестно и он полюбил Аркадия.
— Послушайте, — продолжал Аркадий. — Я вас знал мальчиком и любил вас, я старше много, мне двадцать три, вам, должно быть, шестнадцать, но я не знаю отчего — оттого ли, что вот это случилось, я знаю, что мы будем друзьями. Для меня слишком тяжелое время, на меня нельзя сердиться. Хотите, и тогда вы увидите, что я не мог хотеть оскорбить кого-нибудь, тем более вас, хотите? Хотите? — повторил он, — вы меня узнаете.
Борис улыбался красный еще, но с гордостью чувствуя, как утихала в нем благородная буря.
— Может быть я ошибся, наверное я ошибся, но я горд, вы простите меня. Я знаю, что и вам тяжело.
— Нет, хотите дружбу мою. Не на шутку. А?
Борис подал ему руку. Аркадий притянул его к себе и поцеловал.
— Вот так. Что мне за дело до других, старые люди — другие люди, у вас всё впереди и у меня, может быть, — и он начал говорить совсем иначе, чем прежде, с добродушным оживлением, доходящим до красноречия. — Видите ли, в жизни есть хорошего только спокойствие, книга и дружба. Дружба — не любовь с чувственностью, а чистое, честное сближение без другой цели, как счастье того и другого. И дружба может быть только тогда, когда оба молоды, всё впереди и оба чисты. Ты, верно, чист, я — почти.
— Какой вы странной! — только сказал Борис. — Вы мне были милы с первой минуты, я может быть от этого вспылил так. С другим я бы не сделал этого. Я тоже верю в дружбу; но я моложе вас, и я не знаю, будем ли мы друзьями. Я прошу времени сойтись, узнать друг друга.
— Хорошо, хорошо, «ты» всё таки можно говорить, я так люблю. Ну, ты слушай. Узнавай меня как хочешь, будем видеться часто. Оставайся обедать.
— Нельзя. Я у Простых.
— У каких? А, милый, ты верно влюблен? Да? — Ну это всё расскажи. Расскажи, какие твои планы, какие твои убеждения. Веришь ли ты? — Планы Бориса были служба, война. Убеждения были убеждения матери. Аркадий улыбнулся и стал рассказывать свои убеждения. Он был пропитан новыми идеями того времени, он был и мистик, и либерал, крайний либерал 1794 года, и поклонник Бонапарта. Борис, впервой слышавший всё это, восхищался и входил в новой мир.
В то время, как такая молодость, и надежда, и бессмыслица, и счастье жило в этой комнате между двумя юношами, княгиня в комнате умирающего делала то самое, что так горячо и гордо отвергал ее сын.
Княгиня вошла в картинную галлерею. Тут сидели доктора и говорили между собой по французски, не находя нужным ломать язык по латыни, которую они все перезабыли. Петербургский говорил о новостях Петербурга, о известиях из Эрфурта, о последнем бале. Metivier слушал. Другие слушали. Один московской даже и слушать не мог. Он был погружен в соображения, сколько ему дадут за консультацию у такого богача. Они всё решили и знали, что у больного водяная в груди, и что он жить не может более нескольких часов. Однако, они прописали многое и при Позоровском много говорили по латыни и спорили. Позоровской вышел к княгине.
— Вот мы с вами опять встретились. Ну, что наш больной?
Позоровской сделал только знак головой и губами, знак, означавший самую плохую надежду.
— Я очень любила его и он любил моего Борю — он ему крестник, я бы желала его видеть.
Позоровской, светский человек, дипломат, занимавший одну из высших должностей в Петербурге и сам приехавший за тем же, за чем и княгиня, тотчас понял.
— Не были бы тяжелы ему такие разговоры теперь, — сказал он. — Подождем до вечера, доктора обещают кризис.[694]
— Нельзя ждать, любезный князь, женщина нужнее бывает в эти минуты, чем кто бы то ни было. Исполнил ли он последний долг?[695] Я приготовлю его.
Безухой[696] лежал в кабинете в волтеровском кресле. Около него стояли табакерки с портретами и лекарства, он тяжело дышал и испуганно оглядывался. Он боялся не смерти, но того, что найдет приговор смерти в глазах других. В комнате была бывшая гувернантка его дочери, француженка, исполнявшая уже давно в доме неопределенную роль лектрисы.
— Не хочу я пить этих гадостей. Лорен (петербургский доктор) точно так же ничего не знает, как и они, — говорил он ей. Ее ловкие, белые руки так же тихо и ловко заткнули склянку, как и открыли, и она отошла.
— Как угодно, князь. Не хотите ли чего?
— Одного хочу, — прохрипел он, — чтобы никого ко мне не пускали — особенно этого пролаза кнезь Василья. И зачем он приехал?
В это время дверь тихо отворилась и показался чёрный кружевной чепец и грустное лицо княгини.
— Можно? — Больной подернулся.
— Кто еще?
Княгиня вошла. Ей было далеко итти до кресла, комната была очень велика. Она шла медленно, не на цыпочках и не на всей ноге, но не слышно. Покуда она шла, больной успел и пристально зло посмотреть на нее, и отвернуться, и снова встретить ее приличным, ежели не ласковым, то равнодушным взглядом, спрашивавшим «что вам нужно?». Он умирал, но все условия света были для него так же неизбежно обязательны, как прежде.