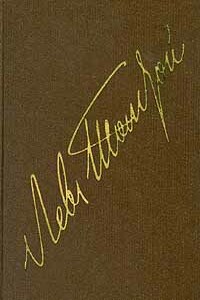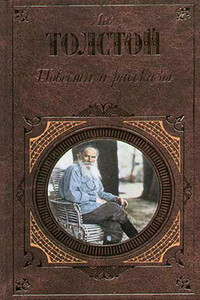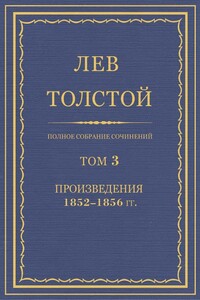— Бывает с тобой, — начала Наташа,— что тебе кажется, что ничего не будет — ничего. Что всё, что хорошее, то было. И не то, что скучно, а грустно?[3518]
— Еще как! — сказал он. — У меня бывало, что всё хорошо, все веселы, и тут мне придет в голову, что ничего не будет и[3519] всё вздор. Особенно, когда я бывало в полку издалека слышу музыку...
— Еще бы! знаю, знаю, — подхватила Наташа.—Я еще маленькая была, так со мною это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали? И вы все танцовали, а я сидела в клас[сной] и рыдала. Так рыдала, никогда не забуду. Мне и грустно было, и жалко было всех, и себя, и всех, всех жалко.
— Помню, — сказал Nicolas.
Наташа подумала (она всё находилась в состоянии воспоминания).
— А помнишь ты, — сказала она с задумчивой улыбкой, — как давно, давно, мы еще маленькие были, папенька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, и темно было, мы пришли и вдруг там стоит...
— Арап, — докончил Николай с радостной улыбкой, — как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап или это мы во сне видели или рассказали.
— Он серый был, помнишь, и белые зубы — стоит и смотрит на нас...
— Вы помните, Соня? — спросил Nicolas.
— Нет, не помню, — робко отвечала Соня.
— Я ведь спрашивала про этого арапа у папà и мамà, — сказала Наташа. — Они говорят, что никакого не было. А ведь вот и ты помнишь.
— Как же, как теперь помню его зубы.
— Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.[3520]
[Далее со слов: — А помнишь, как мы катали яйца в зале... кончая: Разговор шел теперь о сновидениях. — близко к печатному тексту. T. II, ч. 4, гл. X.]
Наташа рассказывала, как она прежде часто летала во сне, а теперь редко.
— Ты как, на крыльях? — спросил Nicolas.
— Нет, так, ногами. Усилиться надо немножко ногами.
— Ну да, ну да, — улыбаясь говорил Nicolas.
— Вот так, — сказала быстрая Наташа, вскочив на диван стоя. Она выразила в лице усилие, протянула вперед руки и хотела полететь, но спрыгнула на землю. Соня и Nicolas смеялись.
— Нет, постой, не может быть, непременно полечу, — сказала Наташа. Но в это время Димлер начал играть. Наташа соскочила, опять взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В их углу было темно, но в большие окны падал на пол холодный, морозный свет месяца.
— Знаешь, я думаю, — сказала Наташа шопотом, придвигаясь к Nicolas и Соне, когда уже Димлер кончил и всё сидел, слабо перебирая струны, видимо в нерешительности, оставить или начать что-нибудь новое, — что когда этак вспоминаешь, вспоминаешь, всё вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете.
— Это метампсикоза, — сказала Соня, которая всегда хорошо училась и помнила историю египтян, [которые] верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.
— Твоя я знаю в кого пойдет душа.
— В кого?
— В лошадь?
—Да?
— А Сонина?
— Была кошка, а сделается собакой, шарло.[3521]
[Далее со слов: — Нет, знаешь, я не верю этому... кончая: ...дурак, — закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и заплакала. — близко к печатному тексту. T. II, ч. 4, гл. X.]
Но тут же вскочила, поцеловала Петю и побежала навстречу наряженных: медведей, коз, турок, баринов, барыней, страшных и смешных. Дворовые с балалайкой ввалились в залу и начались песни, пляски, хороводы и подблюдные песни. Через полчаса в зале между другими наряженными появились еще: старая барыня в фижмах — Nicolas, ведьма — Димлер, гусар — Наташа, черкес — Соня и турчанка — Петя. Всё это было затеяно и устроено Наташей. Она и придумывала наряды и разрисовывала пробкой усы и брови. Она была теперь веселее и оживленнее, чем обыкновенно. После снисходительных удивлений, неузнаваний и похвал со стороны ненаряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь. Nicolas, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек шесть наряженных, ехать к дядюшке, который[3522] только что уехал к себе. Через полчаса были готовы четыре тройки с колокольцами и бубенчиками и в неподвижном, морозном, пропитанном лунным светом воздухе, по не только скрипящему, но свистящему от двадцатипятиградусного мороза снегу, тройки с наряженными покатили[3523] к дядюшке.[3524]
————
[Далее со слов: Наташа первая дала тон того святочного веселья... кончая: Его не расслышали, но всё равно засмеялись. — близко к печатному тексту. T. II, ч. 4, гл. X.]
Бог знает, рад ли был[3525] дядюшка всему этому веселью — даже первое время он казался смущен и ненатурален, но те, кто приехали к нему, и не замечали этого. После плясок и песен начались гаданья. Nicolas снял свои фижмы и надел дядюшкин казакин, барышни оставались в своих костюмах, и всякий раз Nicolas надо было прежде вспомнить, что это Соня и Наташа, когда он смотрел на них с их пробкой начерченными усами и бровями. Особенно Соня поражала его и, к радости ее, он беспрестанно внимательно и любовно смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только, благодаря ее усам и бровям, узнал ее в первый раз. «Так вот она какая, а я-то дурак», думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную из-под усов улыбку, делающую ямочки на щеках, которые он не видал прежде.