Психология литературного творчества - [234]
Впрочем, Лессинг не прав, говоря об естественных знаках в живописи и о произвольных в поэзии. В сущности, дело в том, что живопись действует только сенсорно, только оптически, тогда как поэзия имеет посредником одновременно и слуховое ощущение и дух. И если естественно, что для глаза могут быть даны только краски, а для уха только звуки, в связи с чем живопись пользуется красками, а музыка — звуками, верным является также и то, что у поэзии имеется другой путь для достижения своей цели, а именно путь слов, словесных представлений, данных столь же как смысл, сколь и как звук. Средство поэзии, слова, не являются какими-то произвольными знаками, какими-то искусственными величинами, безразличными сами по себе и не имеющими внутренней связи с вещами, то есть с данным в душе как впечатление, как чувство, как образ, как мысль, а есть нечто столь закономерное, столь неизбежное, столь прочно переплетённое со всей душевной жизнью, каким едва ли могут быть краски, которыми чисто технически овладел художник. Если вообще надо говорить об естественных и о произвольных знаках в творчестве, то несомненно, что эта естественность гораздо более налицо и психологически и физиологически легче объяснима в искусстве языка, чем в изобразительных искусствах. И если Лессинг не без основания считает ономатопею и междометия «естественными» словами, то правильно было бы сказать, что тот же органически обусловленный характер носит весь язык со всем своим словесным богатством.
Лессинг не прав, точнее не вполне прав, и в другом своём утверждении: он хочет целиком изгнать описания из поэзии под тем предлогом, что они были на месте только в живописи, в искусстве «одно подле другого». Несомненно, что механическое перечисление признаков или накопление подробностей, которые могут говорить только глазу, не свидетельствует о хорошем вкусе художника слова, и всякое усилие представить сложную картину во всей пестроте красок и фигур становится тщетным в связи с невозможностью для воображения охватить её легко и наглядно. Ошибки старых и новых писателей в этом направлении как будто призваны оправдать строгую норму Лессинга и подчеркнуть грань между обоими искусствами, которую нельзя перешагнуть безнаказанно. В таком смысле, вероятно, и надо толковать слова Ламартина: «Поэзия хорошо передаёт страдания и радости, но плохо описывает» («La poésie pleure bien, chante, bien, mais elle décrit mal»). Но приводить к логическому завершению это различие между методами «одно подле другого» и «одно после другого» — значит закрывать глаза на бесспорные факты литературной практики и отрицать истинную природу воображения. Потому что, если верно, что всякое описание в поэзии имеет свои узкие рамки, которые нельзя насильственно растягивать, и что никогда поэзия не рисует так рельефно и так непринуждённо, как это делает живопись, не менее верно и другое наблюдение: есть поэты, которые именно внушают необыкновенно живые представления о вещах, схваченных глазом, и есть воображения, способные с успехом сочетать единичные черты, из которых складывается картина, хотя эти черты и не даны в соответствии с правилом драматической сукцессии, рекомендованной Лессингом. Один взгляд на творчество Бальзака или Достоевского, столь обильное описаниями обстановки и лиц, столь документированное описаниями видов, одежды и сцен, тут же покажет нам, насколько Лессинг прав и насколько он метит дальше истины.
Лессинг прав, когда считает длинные и бездушные перечисления чем-то очень скучным в поэме или в романе. Мы действительно «возмущаемся» ревностностью Бальзака, когда он ко всякому портрету присоединяет план дома или квартиры, тем более что все эти архитектурные чертежи, как и точные каталоги обойщиков мебели, заставляют нас, по словам одного беспристрастного бальзаковеда, «видеть очень мало из того, что хочет нарисовать нам автор»[1351]. Но в отличие от подобного злоупотребления поэтической живописью имеются случаи, где описание оправданно и уместно. Например, в романах «Евгения Гранде», «Турский кюре» или «Кузен Понс», где мы видим тесную связь между жилищем и его обитателями, между предметами и людьми, так что обе женщины, например, живущие в старом доме в Сомюре, не могут быть поняты без обстановки, обрисованной, впрочем, кратко. Госпожа Гранде и её дочь прикреплены к своему дому, как плющ к дереву. «Их душа сроднилась с душой дома и всё, что рисует нам Бальзак — улицу, где их глаза видят редких прохожих, а их уши привыкли ко всякому шуму, резные изделия салона, серый тон которого долго отражается на их лицах, соломенный стул с колёсиками в углу у окна, позволяющий госпоже Гранде смотреть на улицу, и у этого стула маленькое кресло Евгении, — всё это составляет часть их духовной жизни и является её существенным элементом» [1352].
Но, повторяем, что, если подробности очерчены бегло и если они не оставляют нас равнодушными, они могут вызвать наше одобрение. Достоевский в «Преступлении и наказании» успевает уже с самого начала своего рассказа заинтересовать нас, не представляя нам ни единой лишней черты молодого человека, выходящего вечером в жаркие июльские дни из своей комнаты и куда-то направляющегося. Раскрывая постепенно его внутренний образ, описывая его чувства и намерения с подлинным мастерством, он всё так же постепенно даёт и тот минимум подробностей, без которого не может обойтись наш глаз. Итак, мы со второй страницы узнаем, что герой имеет тонкие черты и тёмные глаза, среднего роста и стройный, а с третьей страницы — что плохо одет и имеет высокую, заношенную и порыжевшую шляпу. Всё так же бегло дальше представлена нам комната старушонки и сама старушонка с какими-то «острыми и злыми глазенками, с маленьким и острым носом», в ветхих фланелевых тряпках вокруг длинной шеи, каждую минуту кашляющая. Входя в комнату, Раскольников замечает, как она освещена заходящим солнцем и думает: «И тогда, значит, так будет светить солнце!». Всюду Достоевский проявляет самую большую экономию в рисунке, перенося главную тяжесть на изложение чисто внутреннего, где бьётся пульс наиболее интересной человеческой сути. Внешнее привлекает внимание писателя только как пояснение к переживанию и как необходимый его спутник или символ.
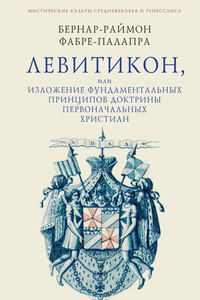
Очередная книга серии «Мистические культы Средневековья и Ренессанса» под редакцией Владимира Ткаченко-Гильдебрандта, начиная рассказ о тайнах Восточного Ордена, перебрасывает мостик из XIV столетия в Новое время. Перед нами замечательная положительная мистификация, принадлежащая перу выдающегося созидателя Суверенного военного ордена Иерусалимского Храма, врача, филантропа и истинно верующего христианина Бернара-Раймона Фабре-Палапра, которая, разумеется, приведет к катарсису всякого человека, кто ее прочитает.

В основу книги легли лекции, прочитанные автором в ряде учебных заведений. Автор считает, что без канонического права Древней Церкви («начала начал»)говорить о любой традиции в каноническом праве бессмысленно. Западная и Восточная традиции имеют общее каноническое ядро – право Древней Церкви. Российскому читателю, интересующемуся данной проблематикой, более знакомы фундаментальные исследования церковного права Русской Православной Церкви, но наследие Западного церковного права продолжает оставаться для России terra incognita.
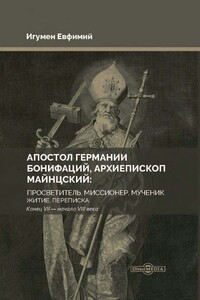
В книге рассказывается о миссионерских трудах и мученической кончине святого Бонифация (672—754) – одного из выдающихся миссионеров Западной Церкви эпохи раннего Средневековья. Деятельность этого святого во многом определила облик средневековой Европы. На русском языке публикуются уникальные памятники церковной литературы VIII века – житие святого Бонифация, а также фрагменты его переписки. 2-е издание.

Книга известного церковного историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории Константино польской Православной Церкви в XX веке, главным образом в 1910-е — 1950-е гг. Эти годы стали не только очень важным, но и наименее исследованным периодом в истории Вселенского Патриархата, когда, с одной стороны, само его существование оказалось под угрозой, а с другой — он начал распространять свою юрисдикцию на разные страны, где проживала православная диаспора, порой вступая в острые конфликты с другими Поместными Православными Церквами.

В монографии кандидата богословия священника Владислава Сергеевича Малышева рассматривается церковно-общественная публицистика, касающаяся состояния духовного сословия в период «Великих реформ». В монографии представлены высказывавшиеся в то время различные мнения по ряду важных для духовенства вопросов: быт и нравственность приходского духовенства, состояние монастырей и монашества, начальное и среднее духовное образование, а также проведен анализ церковно-публицистической полемики как исторического источника.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.