Психологические явления - [3]
Что же? Чрез два месяца на Успенской ярмарке в Харькове идет он вечером из рядов к себе на квартиру — извозчик прямо ему в глаза. Мой купец побледнел, но тотчас оправился и, чтоб не подать никакого подозрения, завел речь издалека.
— А, Филипп; здорово, старый знакомый.
— Здравствуйте, батюшко; как вас бог милует?
— Помаленьку, да где ты пропал из Орла намедни? я не успел и спасибо сказать за твою послугу.
— Спешил домой; наша деревня ведь подгородная.
— Так ты до сих пор пировал все дома, никого не возил, ленивец?
— Как не возил! Я в Королевце ссадил трех седоков, да вот уж и оттуда сюда поспел, все не порожним.
— А — ты прокатился немало. Чай, растрясло твою тележонку. Ведь ты в ней ездил? или она дома оставалася?
— Нет, батюшко, за мою тележонку в Королевце полтораста рублей… — купец вздрогнул… — давали мне, да я и не подумал отдать, я ведь за колеса одни летась[9], к Миколе[10], заплатил пятьдесят рублей. Пожалуй, хоть вашу милость свезу в ней куда угодно.
— А мне и в самом деле пора сбираться в дорогу. Я смеюсь: кибитка твоя мне полюбилась, преспокойная. Здесь она у тебя или в деревне?
— Здесь.
У купца подкосились коленки, насилу мог он удержаться. Слава богу, думал он, из слов извозчика незаметно ничего особенного; он в руках; кибитка цела, в городе, и, кажется, не была нигде без хозяина. Оставался, однако ж, еще вопрос, главнейший: целы ли старые сапоги? Не выбросил ли, не утащил ли их кто на станциях или в деревне?
Дрожащим голосом возобновляет речь купец.
— Да что, Филипп, теперь рано. Сем-ка я посмотрю еще на повозку: поместимся ли мы в ней четверо с поклажею?
— Извольте, батюшко, я стою недалеко отсюда за рекою. Пойдемте.
Отправились, пришли. Кибитка стоит перед купцом, как в ту минуту, когда он садился в нее с тридцатью тысячами рублей.
— Хорошо, Филипп, — сказал он, обхаживая ее и бросая проницательные взоры под передок, — приходи завтра ко мне в лавку. Мы уладимся. — Да! я и позабыл спросить тебя: не вынимал ты ничего из передка?
— Там ничего нет.
— Как ничего? Не видал ли ты… старых сапожонков… они, правда, некорыстные… да мальчишке годятся на дорогу… Посмотри-ка! Сделай милость!
— Пожалуй утрась я пороюсь в сене. Разве завалились куда.
— Нет, посмотри-ка лучше теперь.
— Извольте, — и извозчик полез в повозку — решительная минута! — Там он стал перетряхивать и выбрасывать сено. — Нет ничего, кажется… — купец дрожит как осиновый лист… — Вот веревки… вот запасная пристяжка… гвозди… а это что… фу… задохся от пыли… вот они! куда запропастились, проклятые.
— Здесь! — воскликнул купец, — бросай их скорее.
Сапоги точно его, целы, невредимы и увязаны, как будто вчера положены. Он обеспамятел почти от радости и не мог удержать своего восторга.
— Друг мой, Филиппушка! поди-ка сюда. Ведь в сапогах-то у меня были зашиты тридцать тысяч рублей! — и извозчик в самом деле видит пред собою свертки ассигнаций, синеньких, красненьких, беленьких, все новенькие, с иголочки. — Ай, ай, ай!
Купец дает ему сто рублей и, не слыша земли под ногами, стремглав домой, таща под полою возвращенное сокровище.
И извозчик в барышах: даром получил он сто рублей.
Верно он очень обрадовался такой нечаянной находке?
На другой день поутру он — удавился.
НЕИСТОВСТВО
Дядя с племянником, крестьяне из одного села в Кобеляцком повете[11], ходили, как обыкновенно это водится в Малороссии, на заработки, за Самару, — косить сено от Петрова дня и до Покрова[12]. Домой воротились они с такою суммою денег, которой довольно им было на обыкновенные зимние нужды. Но дяде, человеку пьяному, недостало их и до Мыколина дня: загуляв не в добрый час, он промотал большую половину своей казны на вино, музыку и варенуху[13]. — А между тем к божьему празднику ничего не было приготовлено, подушные не взнесены, рекрутские не выплачены, и голова не давал ему отдыху за недоимками, грозил посадить в колоду и представить в волостное правление. — Напрасно просил он у него отсрочки, давал в заклад домашний скарб, обещал молотить у него даром две недели — ничто не помогало, и притесненный крестьянин решился попросить денег в заем у племянника.
Этот не расположен был ему дать, потому ли, что мало надеялся на его исправность, потому, что ли, что они в самом деле были самому ему нужны.
— Рижство пидходыть, — так отговаривался он пред дядею: — треба жинци очинок купыть и плахту, да и соби чоботы.
Как сей последний ни убеждал его, как ни просил, что ни обещал, племянник стоял на своем и не ссудил его ни шелягом[14].
— Так будешь жалковать, — примолвил сквозь зубы рассерженный малороссиянин и ушел от него.
Дня через четыре, поздно вечером, когда уж все ложились спать, стучится он к племяннику в окошко.
— Яковец, Яковец, та выдь швыдче на двир, ты не бачышь, що у тебе на огороди робыться, свыньи на току весь хлеб перебуровыли.
Племянник поскорее накинул на себя свиту[15] и бегом в огород. — У калитки дожидался его дядя и изо всей силы ударил обухом по голове так, что тот без малейшего крика повалился на землю. Оттащив тело к стороне, спешит он опять к окошку:
— Та пиды, бисова жинка, пособы мужу выгнать свыней з огорода; вин одын сердега ничого не зробыть.

Михаил Петрович Погодин (1800–1875) — историк, литератор, издатель журналов «Московский вестник» (1827–1830), «Московский наблюдатель» (1835–1837; совместно с рядом литераторов), «Москвитянин» (1841–1856). Во второй половине 1820-х годов был близок к Пушкину.
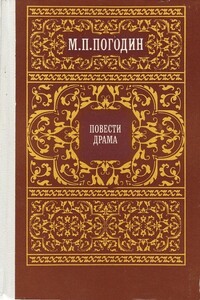
Повесть была впервые напечатана в альманахе «Урания» за 1826 г. Написана в Знаменском летом 1825 г. После событий 14 декабря Погодин опасался, что этой повестью он навлёк на себя подозрения властей. В 1834 г. Белинский писал, что повесть «Нищий» замечательна «по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 94).
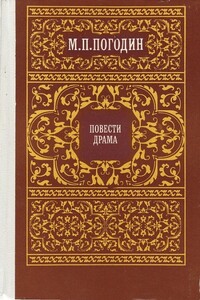
Исторический эпизод, положенный в основу трагедии, подробно описан в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, к которой восходит множество исторически достоверных деталей, использованных Погодиным. Опирался Погодин и на летописи. Основные вымышленные события и лица указаны им самим в предисловии. Кроме того, участие в вымышленной фабуле приписано некоторым историческим фигурам (Упадышу, Овину и др.); события, происходившие в разное время на протяжении 1470-х годов, изображены как одновременные.Сам Погодин так характеризовал свою трагедию в письме к Шевыреву: «У меня нет ни любви, ни насильственной смерти, ни трех единств.
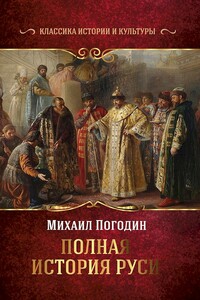
Михаил Петрович Погодин — один из первых историков, положивших начало новой русской историографии. Его всегда отличал интерес к истории Домонгольской Руси и критическое отношение к историческим источникам. Именно Погодин открыл и ввел в научный оборот многие древние летописи и документы. В этой книге собраны важнейшие труды Погодина, посвященные Древней Руси, не потерявшие своей научной ценности до сих пор.

В «Адели» присутствуют автобиографические мотивы, прототипом героини послужила княжна Александра Ивановна Трубецкая, домашним учителем которой был Погодин; в образе Дмитрия соединены черты самого Погодина и его рано умершего друга, лидера московских любомудров, поэта Д. В. Веневитинова, как и Погодин, влюбленного в Трубецкую.
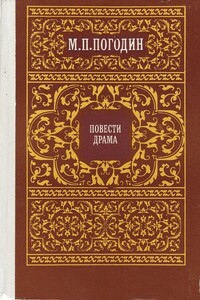
Впервые напечатано в «Московском вестнике», 1829, ч. II, с. 1–71, за подписью «М. П.». Отдельным изданием — М., 1829.Эпизод гадания на «шарах» (глобусах) был рассказан Погодину Д. М. Перевощиковым (1788–1880), математиком и астрономом, профессором Московского университета.В дневнике Погодина от 9 декабря 1828 г. имеется запись: «К Пушкину. Прочел „Немочь“. Хвалит очень, много драматического и проч.» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 17).В Петербурге устраивали публичные чтения повести и сообщали оттуда Погодину: «Здесь все: и профаны, и люди мыслящие — превозносят ее, потому что находят в ней пищу» (II, 297).Белинский писал в 1835 г., что «Черная немочь» «есть повесть совершенно народная и поэтически нравоописательная», что в ней представлена «полная картина одной из главных сторон русской жизни, с ее положительным и ее исключениями» (Белинский В. Г.
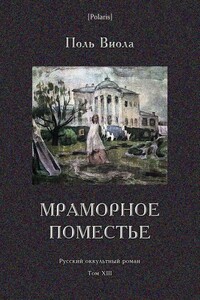
Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.
![Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I]](/storage/book-covers/86/86c1d9f26f4e3d4c98834f70b0afbac3cb082a09.jpg)
В первом томе собрания рассказов рижской поэтессы, прозаика, журналистки и переводчицы Е. А. Магнусгофской (Кнауф, 1890–1939/42) полностью представлен сборник «Тринадцать: Оккультные рассказы» (1930). Все вошедшие в собрание произведения Е. А. Магнусгофской переиздаются впервые.
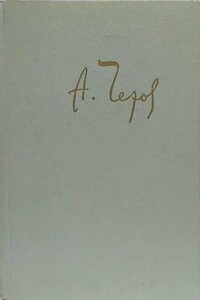
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
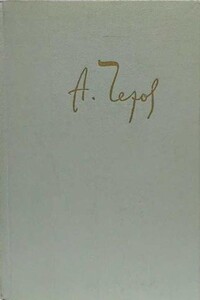
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
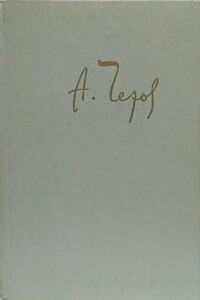
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
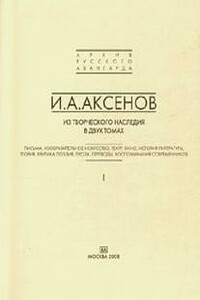
В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.