Прощение - [3]
Те же потоки солнца и света… те же розы и мирты, усыпавшие тело… То же неподвижно величавое спокойствие мертвеца.
А женщина все рыдает и шепчет, теперь уже яснее:
— Amico ruio, Vitalio mio!…
Она безумная… В этом нет сомнения.
Я приближаюсь к ней и ласковым насилием хочу отвести от гроба.
Но ее пальцы впились в белый глазет… Глаза, из которых глядит на меня ужас и отчаяние, не отрываясь смотрят на меня.
— Синьора, — слышатся мне глухие, страшные звуки, — синьора, вы должны меня здесь оставить… здесь… около, пока его не зароют… Я… я… его любовница!
И море, и небо, и розы все свернулось в одну пеструю пену… Она растет и клокочет и захлестывает меня, окружая и заполняя собой все со всех сторон… Она леденить и жжет и поднимается все выше и выше, вровень с лицом, с глазами.
Какая ночь… какая темнота…
И я теряю сознание.
IV
Ночь… все еще ночь… хотя голубоватый эфир льется в комнату широкой, ароматной волной.
Вчера его хоронили…
Я слышала, как во сне, дребезжащей, старческий голос единственного русского священника, отысканного Розориттой.
Я не могла проводить его на крошечное русское кладбище…
Не от бессилья, нет.
Он стал мне чужой и далекий и вся моя жизнь с ним полна лжи и обмана, бесчеловечного обмана, который я не в силах простить!
Я не страдаю больше, мне только темно, потому что на душе, у меня беспросветная ночь… ночь в сердце и ночь в мыслях.
Его унесли тихо… тихо, чтобы не беспокоить меня.
Но тем не менее я слышала и шепот молитв и другой шепот, твердящий поминутно свое ужасное:
— Vitalio mio, amico mio! Как она его любила… Боже Милосердный… А он? И он тоже! Конечно…
Она так прекрасна.
Ты лгал мне, безжалостно лгал, когда взял мое бедное сердце там далеко, на берегу обрыва.
Ты лгал, когда целовал мои кудри, мое «золотое руно», как называл их в шутку…
Ты лгал, когда говорил, что любишь меня больше всего в мире.
Всюду ложь…
Ложь, ложь, ложь!
И грезы славы, и грезы счастья, и приливы чувства — все ложь, жестокая и беспощадная.
Ты любил ее, лаская меня, ты целовал ее образ, прекрасный и гордый, в то время, когда мои губы сливались с твоими.
Из писем, присланных мне Джулией, я узнала всю эту низкую повесть лжи и порока.
Они любовники с юных дней, когда я еще не знала Виталия. Она была уже женою другого… Он не смел открыто обладать ею и вот, чтобы заполнить свою жизнь и рассеять горе, он взял меня.
Взял, чтобы погубить навсегда.
Так вот почему его тянуло в Италию!
Там была она — его Джулия.
Джулия, Юлия… Как сладко и мелодично должно было звучать в его устах это имя!
Отчего я не Юлия?
Лиза — ничтожное мещанское имечко, не давшее ему ни малейшей иллюзии обмана.
Джулия и Лиза!… Алмаз и булыжник…
Но что значить имя, когда она сама так прекрасна!
Ложь… ложь… я проклинаю твое происхождение, как самое происхождение греха.
И как мог ты притворяться, лаская меня?
Я видела огонь, жаркий и неподдельный, твоих глаз, когда теплая итальянская ночь глубокой непроницаемой тайной окутывала окрестности и мы рука об руку бродили по набережным каналов.
Огонь разгорался все ярче и ярче, когда приближался час наслаждения… час объятий и ласк, бесконечных и светлых, смешанных с поцелуями и смехом, счастливым смехом, граничащим со слезами.
О, эти ночи ароматные, южные, похожие на дивную сказку без конца и начала!..
. . . . . . . . . . . . . .
Мы возвращались в Россию, чтобы снова спешить в Италию.
Теперь я понимаю зачем.
Тебя там ждали… Ждали поцелуи и ласки — более горячие, нежели мои.
И ты уходил к ней, не остывший еще от моих ласк, унося аромат моих духов и волос, смешивая его
с другим ароматом, более соблазнительным по своей порочности.
О, как искусно скрывал ты от меня свою потрясающую, беспросветную тайну!
Но я не упрекаю тебя! Вы и так наказаны судьбою… Она прекратила это безобразное торжество сатаны и его ангелов!
Я не упрекаю, потому что не люблю.
Любить и не верить нельзя.
Только во мне ночь… все ночь… в душе, и мыслях, и в самом сердце моем ночь…
V
Еще день… еще утро…
То же умиленное небо… те же лучи, сияющие и не греющие меня.
Я встала, сегодня… «Они» думали, что я больна…
Нет, у меня ничего не болит. Я только оцепенела.
Только что-то холодное, ужасное налегло и давит сердце.
Вошла Розоритта. В ее глазах ужас.
— Что такое? Дай зеркало.
— Синьора, ах, синьора… И по лицу ее бегут слезы. Да что же, наконец, со мною?
А… я седая… вся седая и белая, как снег моей родины. Ни одной золотой нити… Все бело, бело.
— Как вы его любили, добрая синьора, — шепчет Розоритта, вытирая слезы.
Любила… да.
А сердце давит все больнее и больнее.
Розы, поставленный на окошко, благоухают слишком пряно и ядовито.
Они отравляют мысль.
Но что же? Тем лучше! Они мешают сознанию и думам.
— К вам письмо, синьора! — и нерешительным движением Розоритта протягивает мне белый конвертик.
Письмо от Джулии. Всего одна строчка: «Во имя Бога и Мадонны, примите меня!»
— Там ждут ответа?
— Да, синьора.
— Скажи, что жду сегодня.
Она уходит… С нею уходить день… Ночь в моей душе еще темнее и глубже.
Ждать ту, которая отняла от меня все любимое мною… Ждать, видеть и не проклинать…
Но зачем же, зачем она отдала его мне… зачем отпустила от себя…
Мы были бы обе счастливы, не зная друг друга…

Жила в роскошном замке маленькая принцесса Эзольда, хорошенькая, нарядная, всегда в расшитых золотом платьях и драгоценных ожерельях. Словом, настоящая сказочная принцесса — и, как все сказочные принцессы, недовольная своей судьбой.Совсем избаловали маленькую Эзольду. Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего ни пожелает принцесса — мигом исполняется…

Некрасивая, необщительная и скромная Лиза из тихой и почти семейно атмосферы пансиона, где все привыкли и к ее виду и к нраву попадает в совсем новую, непривычную среду, новенькой в средние классы института.Не знающая институтских обычаев, принципиально-честная, болезненно-скромная Лиза никак не может поладить с классом. Каждая ее попытка что-то сделать ухудшает ситуацию…

Повесть о жизни великого подвижника земли русской.С 39 иллюстрациями, в числе которых: снимки с картин Нестерова, Новоскольцева, Брюллова, копии древних миниатюр, виды и пр. и пр.
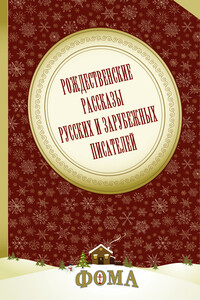
Истории, собранные в этом сборнике, объединяет вера в добро и чудеса, которые приносит в нашу жизнь светлый праздник Рождества. Вместе с героями читатель переживет и печаль, и опасности, но в конце все обязательно будет хорошо, главное верить в чудо.
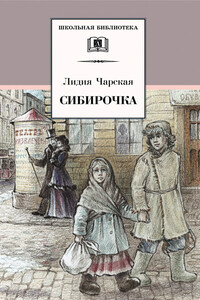
В книгу Л. Чарской, самой популярной детской писательницы начала XX века, вошли две повести: «Сибирочка» и «Записки маленькой гимназистки».В первой рассказывается о приключениях маленькой девочки, оставшейся без родителей в сибирской тайге.Во второй речь идет о судьбе сироты, оказавшейся в семье богатых родственников и сумевшей своей добротой и чистосердечностью завоевать расположение окружающих.Для среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».
