Прощание - [17]
Штаны у Гартингера были спущены до колен.
Класс замер. Все смотрели прямо перед собой. Руки лежали на партах плашмя, большими пальцами вниз, как приклеенные.
Географическая карта натянулась и плотно приникла к стене.
На дворе сияла весна.
Окна были закрыты. Их нижние матовые стекла вместе с голыми серыми стенами делали класс похожим на подземный каземат, и от этого перехватывало дыхание и в страхе замирало сердце.
— Ну-с, долго ты еще будешь упорствовать?
Голь с треском распахнул шкаф и стал шумно выбирать розгу.
Я чуть отпустил голову Гартингера, которую мне приказано было пригибать книзу. Вдруг Гартингер приподнял голову. Глаза у него помутнели и, казалось, вот-вот выступят из орбит. Совсем как глаза уснувших рыб, виденных мною на рынке.
В животе у него урчало.
Рубашка, завернутая на спине, была из суровой грубой ткани, похожей на отсыревшую оберточную бумагу. Быть может, для Францля больнее всяких ударов было то, что весь класс видел, какая на нем дешевая плохая рубашка.
— Скажешь ты или не скажешь?
Голь подошел ко мне и велел еще ниже пригнуть голову Гартингера, и без того свисавшую за край парты. Феку и Фрейшлагу он сделал знак розгой — крепче держать ноги. Как в тисках!
Розга согнулась дугой так, что оба конца ее почти сошлись, и распрямилась со свистом.
Я еще не совсем проснулся, я все еще грезил ужасами минувшей ночи. После собственной казни меня приговорили присутствовать на казни иного рода, и мне казалось, что эта казнь — сон, а та, что я видел во сне, совершилась на самом деле.
Вдруг я заметил, что на куртке у меня не хватает пуговицы, которую я оторвал накануне собственной казни. Пуговица лежала в кармане штанов. Я быстро ощупал ее — это была самая настоящая пуговица, круглая и гладкая, она вернула мне смутное ощущение того, что я не умер.
— Признаешься ли ты, Гартингер, что именно ты задумал прогул и подучил Гастля украсть деньги?
Этот вопрос, заданный с яростью, окончательно вернул меня к действительности, я только теперь почувствовал, что держу голову Гартингера и что она холодная и липкая.
В животе у Гартингера заурчало, и это было как бы ответом на вопрос Голя.
— Раз! Два! — Голь поднял розгу, словно дирижер, и все раскрыли рты, как на уроке пения.
Голь отступил на шаг.
— Это я подговорил его, господин учитель, я, я, я! — Мое «я» вдруг перешло в какую-то икоту. «Мужайся, — уговаривал я себя, — ведь ты хочешь стать генералом!»
Розга повисла в воздухе.
В классе сделалось еще тише. Мне показалось, что в животе у Гартингера заурчало веселее. Я выпустил голову Францля.
Фек и Фрейшлаг отпустили его ноги; ноги дернулись и подскочили кверху.
— Молчать! Держать ноги! Голову вниз!
Было так тихо, что это походило уже на бунт. Недаром Голь скомандовал «молчать!», — тишина громко кричала.
Мы подступили к Гартингеру, точно прислуга к своему орудию. В Обервизенфельде я однажды видел, как это делается.
— Готовность вступиться за товарища, Гастль, делает тебе честь, но ты напрасно стараешься, нас не проведешь.
Кто это «мы», которых не проведешь? О ком говорит Голь?
Посыпались первые удары.
— Виноват я, я один! — крикнул я еще раз при виде полос, которые розга оставляла на теле Гартингера.
— Молчать! Считайте хором!
Класс считал:
— Пятнадцать… Шестнадцать… Семнадцать…
Голь всех вовлек в это дело, я оказался один против целого класса, мое сопротивление было сломлено.
Одна половина моего существа рвалась отпустить голову Гартингера, другая крепко держала. Что-то во мне говорило: «Свинство!» Что-то: «Ты должен! Ничего не поделаешь!»
Хлоп, хлоп… Совсем как во сне, во время моей казни, когда ученики в такт ударам топора хлопали в ладоши.
— Буль-буль, — клокотало что-то в горле у Гартингера, казалось, он вот-вот харкнет кровью.
— Обелиск! Пропилеи! — зашептал я, наклонившись к его уху, и снова пригнул ему голову, на ощупь похожую на примятый резиновый мяч.
С некоторых пор мне казалось, что есть слова, способные делать человека нечувствительным к боли. Их нужно лишь повторить про себя несколько раз подряд. И чем они нелепее, чем неуместнее, тем скорее они оглушают, вызывают оцепенение, полное безразличие.
— Обелиск! Пропилеи!
А может быть, подергать его за уши, и боль, сосредоточенная ниже спины, равномернее распределится по всему телу?
Чернила в чернильнице колыхались.
— Двадцать пять!
Часть класса пропела это, точно ликуя, точно готовая захлопать в ладоши, другая же часть к концу все замедляла счет, а «двадцать пять» и вовсе не произнесла, словно хотела бы растянуть наказание навеки.
— Двадцать пять! Францль, двадцать пять! — обрадованно шептал я ему на ухо; он, наверное, потерял счет, как это было со мной на Новый год, когда я, испуганный поднявшимся трезвоном, перестал считать удары башенных часов.
Я потирал руки, они были липкие и влажные.
Мне очень хотелось осмотреть розгу, такая ли она, какая была до порки, не нужно ли ей поправиться, прежде чем ее снова пустят в дело. Вид у нее был больной и утомленный, она явно осунулась и похудела.
Гартингер застегнул штаны. Я помог ему заправить в них рубашку.
Даже на лице у Францля, помятом и выпачканном, были следы ударов, от которых вздулось все его тело. Я хотел обмыть ему лицо губкой, которой стирают мел с доски, но учитель не позволил:

«Трижды содрогнувшаяся земля» (перевод Г. Я. Снимщиковой) — небольшие рассказы о виденном, пережитом и наблюденном, о продуманном и прочувствованном, о пропущенном через «фильтры» ума и сердца.

БВЛ — Серия 3. Книга 10(137). "Прощание" (1940) (перевод И. А. Горкиной и И. А. Горкина) — роман о корнях и истоках гитлеровского фашизма. Это роман большой реалистической силы. Необыкновенная тщательность изображения деталей быта и нравов, точность воплощения социальных характеров, блестящие зарисовки среды и обстановки, тонкие психологические характеристики — все это свидетельства реалистического мастерства писателя. "Трижды содрогнувшаяся земля" (перевод Г. Я. Снимщиковой) — небольшие рассказы о виденном, пережитом и наблюденном, о продуманном и прочувствованном, о пропущенном через "фильтры" ума и сердца.Стихотворения в переводе Е. Николаевской, В. Микушевича, А. Голембы, Л. Гинзбурга, Ю. Корнеева, В. Левика, С. Северцева, В. Инбер и др.Редакция стихотворных переводов Л. Гинзбурга.Вступительная статья и составление А. Дымшица.Примечания Г. Егоровой.Иллюстрации М. Туровского.

Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.

Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
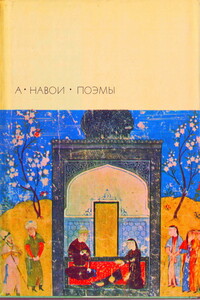
«Фархад и Ширин» является второй поэмой «Пятерицы», которая выделяется широтой охвата самых значительных и животрепещущих вопросов эпохи. Среди них: воспевание жизнеутверждающей любви, дружбы, лучших человеческих качеств, осуждение губительной вражды, предательства, коварства, несправедливых разрушительных войн.

Шекспир — одно из чудес света, которым не перестаешь удивляться: чем более зрелым становится человечество в духовном отношении, тем больше открывает оно глубин в творчестве Шекспира. Десятки, сотни жизненных положений, в каких оказываются люди, были точно уловлены и запечатлены Шекспиром в его пьесах.«Макбет» (1606) — одно из высочайших достижений драматурга в жанре трагедии. В этом произведении Шекспир с поразительным мастерством являет анатомию человеческой подлости, он показывает неотвратимость грядущего падения того, кто хоть однажды поступился своей совестью.

«К западу от Аркхема много высоких холмов и долин с густыми лесами, где никогда не гулял топор. В узких, темных лощинах на крутых склонах чудом удерживаются деревья, а в ручьях даже в летнюю пору не играют солнечные лучи. На более пологих склонах стоят старые фермы с приземистыми каменными и заросшими мхом постройками, хранящие вековечные тайны Новой Англии. Теперь дома опустели, широкие трубы растрескались и покосившиеся стены едва удерживают островерхие крыши. Старожилы перебрались в другие края, а чужакам здесь не по душе.

БВЛ - Серия 3. Книга 72(199). "Тихий Дон" - это грандиозный роман, принесший ее автору - русскому писателю Михаилу Шолохову - мировую известность и звание лауреата Нобелевской премии; это масштабная эпопея, повествующая о трагических событиях в истории России, о человеческих судьбах, искалеченных братоубийственной бойней, о любви, прошедшей все испытания. Трудно найти в русской литературе произведение, равное "Тихому Дону" по уровню осмысления действительности и свободе повествования. Во второй том вошли третья и четвертая книги всемирно известного романа Михаила Шолохова "Тихий Дон".