Пропущенная глава - [8]
"Послушайте,- говорил Драго, уже непонятно, пересказывая свои разговоры с Берлином или непосредственно мне,- людям ведь необходимо чувствовать себя в истории, не только европейцам, а всем - не обязательно в истории страны или нации, но в истории семьи, дома, сада, мебели, хутора, пейзажа - обязательно. Всем, кроме каких-нибудь лесных народцев в Африке. И - американцев. Раз-два продал дом, выставил вещички на ярд-сейл, остальные упаковал, сел в грузовичок - и фьють за три тыщи миль. Постоянно ломают здания, сносят целые районы, тут же строят на их месте новые. Потому что если не менять, то сразу начинают тухнуть. Потому что не знают, как жить, чтобы и не менять, и не тухнуть. Они историю готовы при любой возможности разрывать и разрывают, у них к этому охота, они этим даже дорожат. Первая реакция - чуть не восторг, по себе знаю: я вне истории, вот она, свобода! А потом: какая же свобода, если вне, это же просто тюрьма наоборот, камера-одиночка наоборот. Ты будь свободен внутри истории, опутанный всеми ее силками, а не упрощай дело искусственно. Берлин возражал: "Вы не учитываете страх. Это же страшно - быть нигде, это же требует невероятного мужества". Возражал, но сам-то, как все мы грешные, хотел знать, в какой точке циферблата каждую минуту находится. Только отшучивался: "Да не приставайте вы к ним. Хотят жить отвязано, пусть живут. Они не вы". А я наседал: "Нет, они - я! Все - я, и никаких таких других людей, которые не как я, не существует в природе. Я - не Драго, а одна скольки-то-там-ардная частица человечества. Но человечество - такое, только такое! Плюрализм Драг - таких как я, таких как вы, как Тито, как Сталин, как буфетчица Марь-Иванна из рижского Дома дружбы народов и ее дочка парикмахерша Тася, как тот хорват и тот вохровец, которого я приделал, в общем, как все мы человеки - а не как какие-то особые американцы, которым, видите ли, не присуще чувство истории"."Ну хоть африканским пигмеям,- подтрунивал он,- уж позвольте быть не как вы, уж уступите"".
Из затеи проведения семинаров вдвоем ничего не вышло - факультет посмотрел на совместное предприятие своего рядового сотрудника с мировой звездой кисло. Больше того, все значительное и свежее, до чего Берлин и Драго договаривались, воодушевляя друг друга, в частных своих беседах или каждый в одиночку в монологах, воодушевляемых простым присутствием другого, было уже к моменту возникновения в качестве новой мысли не нужно не только университету, но и, так сказать, обществу в целом. Нужно было только то, что ко времени произнесения существовало как ограниченное, проверенное и принятое неким завершенным сертифицированным знанием, а новизна допускалась лишь в виде переформулировки известного. Это распространялось и на осмысление фактов, и на сами факты. Скажем, Драго терпели как чудака, его судьбу соглашались принять как сказку, потому что нельзя же сидеть в собрании и обсуждать академическую успеваемость студентов или, того пуще, задачи современной историософии с человеком, который проделал такое в действительности. Берлин, читая лекции, те, которых от него ожидали, то есть блестящие, с широчайшим охватом предмета и глубочайшей эрудицией и при этом вполне усваиваемые аудиторией, тем не менее пытался ввести в них, перевести на их язык, вывести из рамок условного опыт именно такого рода: ужасов века. Диктатур, взаимо-, что значит само-, истребления, Холокоста. Того, что проделал Драго. Словом, действительности.
Идеи исправления человечества, отталкивающего собственное счастье, которое готовы преподать ему люди, заведомо знающие за других, в чем оно состоит и как достигается, Берлин отбрасывал самым решительным образом как вымышленные и вредные. Но в публичных лекциях, в частности, в прочитанных в Брин Море, сперва демонстрировал их безосновательное прекраснодушие и лишь затем исходящую от них опасность. Так что той части аудитории - иногда, возможно, всей целиком,- которая им сочувствовала, он бросал не политический вызов, чреватый немедленным отчуждением, а предлагал прежде всего убедительную логику философии и истории. Соображения о том, что преодолей народная масса свою необразованность и навязанную ходом вещей несправедливость и отдайся борьбе за - и труду на - общее благо, разбивались о действительность, в которой человеческая природа всегда оставалась равной себе. (Я, например, долгое время был уверен, что, когда в России прочтут "Архипелаг ГУЛАГ", "изумленные народы" раз навсегда проклянут террор, а за ним и породивший его режим. Ничуть. Да, мелкие ошибки случались, но главное не только правильно, а только так и должно было быть. И даже что брата родного закатали и не вернулся, кто закатывал, тот знал, а нам всего знать и нельзя, и не дано, и не надо.)
Благодетелей такая косность, естественно, огорчает и приводит в раздражение, но убежденности не колеблет. Мой друг переезжал, еще в пору железного занавеса, жить на Запад, предложил опубликовать там мои стихи, потому что в России их не печатали, считали "нецелесообразным". Я не хотел, сказал, что не хочу, он уговаривал, мы были недовольны друг другом, в конце концов я твердо отказался, даже запретил. Через месяц он выступил по тамошнему радио, упомянул и о нашем разговоре, объявив слушателям, что он знает стопроцентно, что я только "говорю" так, а на самом деле, конечно, сплю и вижу стихи опубликованными. Он был искренно в этом убежден, потому что он-то свои напечатать хотел, ну и объективно публикация стихов - дело не плохое, хорошее, так что что же тут можно возразить? Враждебное мне государство и преданный мне друг состязались за то, у кого больше прав мной распоряжаться,- я был безгласен. Как описывал Берлин свой приход в Сербитонскую школу: "В первый день я не разговаривал ни с кем; меня заставили рисовать - я рисовал; единственный раз в жизни, когда я что-то нарисовал правильно". Но, как говорит в подобных обстоятельствах другой мой друг, художник Олег Целков - "еще надо спросить, хотел ли я нарисовать правильно".
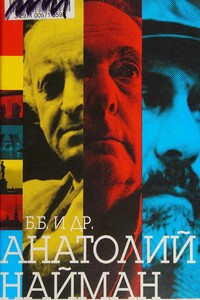
Первая публикация (в 1997 году) романа Анатолия Наймана «Б.Б. и др.» вызвала если не скандальную, то довольно неоднозначную реакцию культурного бомонда. Кто-то определял себя прототипом главного героя (обозначенного в романс, как Б.Б.), кто-то узнавал себя в прочих персонажах, но и в первом п во втором случаях обстоятельства и контексты происходящего были не слишком лестны и приличны… (Меня зовут Александр Германцев, это имя могло попасться вам на глаза, если вы читали книгу Анатолия Наймана «Поэзия и неправда».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
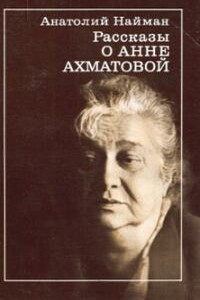
Колоритная и многогранная личность Анны Ахматовой стает со страничек мемуаров А. Г. Наймана, которому довелось в течение ряда лет быть литературным секретарем Анны Андреевны, работать совместно с нею над переводами забугорной поэзии, вести беседы о жизни, литературе, политике.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книжка-легенда, собравшая многие знаменитые дахабские байки, от «Кот здоров и к полету готов» до торта «Андрей. 8 лет без кокоса». Книжка-воспоминание: помнит битые фонари на набережной, старый кэмп Лайт-Хаус, Блю Лагун и свободу. Книжка-ощущение: если вы не в Дахабе, с ее помощью вы нырнете на Лайте или снова почувствуете, как это — «В Лагуне задуло»…

Автор приглашает читателя послужить в армии, поработать антеннщиком, таксистом, а в конце починить старую «Ладу». А помогут ему в этом добрые и отзывчивые люди! Добро, душевная теплота, дружба и любовь красной нитью проходят сквозь всю книгу. Хорошее настроение гарантировано!

В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые занимают ее на протяжении жизни. Одна из них – тема Рода. Как, по каким законам происходит наследование личностью родовых черт? Отчего именно так, а не иначе продолжается история того или иного рода? Можно ли уйти от его наследственной заданности? Бабка, «спивающая» песни и рассказывающая всей семье диковатые притчи; прабабка-цыганка, неутомимо «присматривающая» с небес за своим потомством аж до девятого колена; другая бабка – убийца, душегубица, безусловная жертва своего времени и своих неукротимых страстей… Матрицы многих историй, вошедших в эту книгу, обусловлены мощным переплетением генов, которые неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи.

«Следствие в Заболочи» – книга смешанного жанра, в которой читатель найдет и захватывающий детектив, и поучительную сказку для детей и взрослых, а также короткие смешные рассказы о Военном институте иностранных языков (ВИИЯ). Будучи студентом данного ВУЗа, Игорь Головко описывает реальные события лёгким для прочтения, но при этом литературным, языком – перед читателем встают живые и яркие картины нашей действительности.

"Хроника времён неразумного социализма" – так автор обозначил жанр двух книг "Муравейник Russia". В книгах рассказывается о жизни провинциальной России. Даже московские главы прежде всего о лимитчиках, так и не прижившихся в Москве. Общежитие, барак, движущийся железнодорожный вагон, забегаловка – не только фон, место действия, но и смыслообразующие метафоры неразумно устроенной жизни. В книгах десятки, если не сотни персонажей, и каждый имеет свой характер, своё лицо. Две части хроник – "Общежитие" и "Парус" – два смысловых центра: обывательское болото и движение жизни вопреки всему.Содержит нецензурную брань.

Героиня романа Инна — умная, сильная, гордая и очень самостоятельная. Она, не задумываясь, бросила разбогатевшего мужа, когда он стал ей указывать, как жить, и укатила в Америку, где устроилась в библиотеку, возглавив отдел литературы на русском языке. А еще Инна занимается каратэ. Вот только на уборку дома времени нет, на личном фронте пока не везет, здание библиотеки того и гляди обрушится на головы читателей, а вдобавок Инна стала свидетельницей смерти человека, в результате случайно завладев секретной информацией, которую покойный пытался кому-то передать и которая интересует очень и очень многих… «Книга является яркой и самобытной попыткой иронического осмысления американской действительности, воспринятой глазами россиянки.