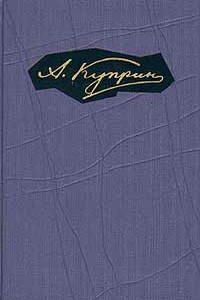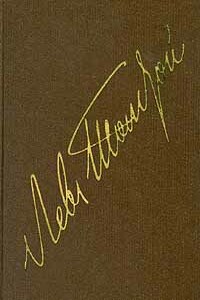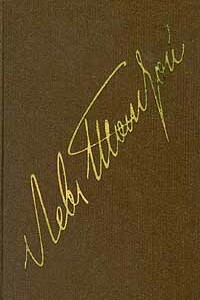Произведения 1885-1902 гг - [152]
Варвара Николаевна ничего не сказала, но подумала, что Владимир прав, потому что она знала непрактичность и способность увлекаться своей сестры.
— Так ты и отдай ему.
— Ах! Это невозможно. Мы пробовали. Начинается такая мелочность, такое économie de bouts de chandelles…[29]и потом ни мне, ни Вере, — Вера была ее шестнадцатилетняя дочь, — невозможно за каждой мелочью ходить к нему.
— А Вера est dépensière?[30]
— Нет, не очень. Но, как все девочки, не знает цены деньгам. Просила лошадь верховую, потому что у Лили есть. А в Ницце держать лошадь, ты знаешь, что это стоит, грума, ça coûte les yeux de la tête[31].
— A что, Лили все не выходит замуж? — спросила Варвара Николаевна, — и Марья Николаевна, не замечая того, что они говорили о совсем другом, тотчас же начала рассказывать про Лили, про ее кокетство и про то, отчего она не выходит замуж. При этом Варвара Николаевна рассказала про себя, про то, что Марья Николаевна давно знала, что она совсем не хотела выходить замуж и что теперь часто говорит это Анатолю. На что Марья Николаевна заметила, что они все ужасно глупы и непоследовательны, и хотела рассказать о случае непоследовательности, но Варвара Николаевна привела свои более сильные примеры непоследовательности своего мужа.
— Да, это они все, — сказала Марья Николаевна, отыскивая рукой черепаховую шпильку. Варвара Николаевна подала ей ее и спросила, так ли всё носят волосы. Вследствие чего разговор перешел на прически.
«Ужасно frivole[32]», — думала Варвара Николаевна, когда Марья Николаевна сняла кофту и стала надевать на туго стянутый корсет слишком, по мнению Варвары Николаевны, нарядное платье vert bouteille[33] с бархатной отделкой. «Как она молодится! — думала Варвара Николаевна. — А она на три года старше меня». Марья Николаевна видела, что Варя замечает и не одобряет ее туалета, и сама о ней подумала, что она слишком опустилась. «Эта кофточка бумазейная и не свежая. А муж ее молод». И эта филиация мыслей привела ее к тому, чтобы спросить ее о нём.
— Ну, а как Анатоль, не тяготится деревенской жизнью?
— Нет, но только этот год нынешний такая бездна дел, от этого голода. Я почти не вижу его. Это теперь особенное счастье, что вы застали его.
— Ну, а что же, правда, голод? За границей пишут ужасы, коллекты[34] делают. Мне кажется, что преувеличенно.
— Спроси у Анатоля. Он говорит, что нет. Да, я вижу, иногда приходят люди. — И Варвара Николаевна вспомнила об оборванной женщине с сумой, в разбитых лаптях, которая нынче утром встретилась ей у людской, и это воспоминание навело ее на обувь. — Я думаю, ты привезла кучу ботинок и туфель. Заграничные так хороши. Я позволяю себе эту роскошь.
— Да, я привезла много. Хочешь, я тебе уступлю? Тебе ведь впору мои?
— Не совсем — широки, — сказала Варвара Николаевна, никогда не пропускавшая без возражения попытки Марьи Николаевны утверждать, что у них ровные ноги. — Не впору, но носить могу. Что же, вещи приехали?
— Вероятно, я спрошу. Да ведь ты готова?
— Пойдем. Скоро обедать. Я думаю, ты голодна?
Так беседовали старшие. Между тем в комнате рядом с детской, отведенной для Веры, шли свои разговоры между свидевшимися двоюродными. Вера, стройная, румяная, с блестящими глазами и зубами и такими же, как у тетки, вьющимися волосами, в модном, но простом платье, сидела на диване, окруженная всеми четырьмя старшими Лыжиными, и вела беседу с самой старшей девочкой, кузиной, пятнадцатилетней Сашей, которая сидела рядом с ней и не спускала с нее влюбленных глаз и не обнимала ее, очевидно, только потому, что Вере это могло не понравиться.
В таком же точно положении находился и второй — одиннадцатилетний черноглазый, поэтического вида мальчик Миша, и в еще более ошалевшем от влюбленности состоянии находился третий — толстый белокурый широкорожий бутуз Вася, с блестящими узкими серыми глазенками, ни на минуту не спускавшимися с лица и рта говорившей кузины. Только пятилетний Анатолий Анатолиевич, сидевший у Веры на коленях, очевидно не был восхищен так же, как остальные. Он был совершенно равнодушен и не понимал, из чего они так волновались. Ну, кузина, ну, Вера, ну, держит на коленях, ну, колени такие же, как у няни. Платье на груди атласное и часы. Это хорошо. Но все-таки ничего особенного, и, главное, ничего этого есть нельзя, а уже пора.
Атмосфера обожания, в которой она себя чувствовала, возбуждала Веру. Она и была из тех, которые особенно чутки и легко возбуждаются восхищением людей, да и избалована она была этим и любила это, и теперь ей было очень хорошо. Она видела, что ей восхищаются. И от этого она всей душой любила теперь этих милых детей. А дети чувствовали, что она любила их, и от этого еще больше восхищались и т. д. Круг был замкнут, и любовного электричества набиралось все больше и больше.
Вера рассказывала им про то, как в Италии она один раз отняла собаку у мальчиков, которые мучали ее.
— Как же они перестали? — спросил неожиданно Вася, широкорожий белокурый бутуз.
Вера оглянулась на него, и все оглянулись на него, и бутуз начал краснеть, краснеть. Казалось, нельзя было больше покраснеть, но кровь еще и еще приливала, и сырость начинала выступать у него на лбу и в глазах. Он сидел не шевелясь, только вжимая шею в плечи, очевидно чувствуя, что при малейшем движении он погибнет.

Рассказы, собранные в этой книге, были написаны великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым (1828–1910) специально для детей. Вот как это было. В те времена народ был безграмотный, школ в городах было мало, а в деревнях их почти не было.Лев Николаевич Толстой устроил в своём имении Ясная Поляна школу для крестьянских детей. А так как учебников тоже не было, Толстой написал их сам.Так появились «Азбука» и «Четыре русские книги для чтения». По ним учились несколько поколений русских детей.Рассказы, которые вы прочтёте в этом издании, взяты из учебных книг Л.

Те, кто никогда не читал "Войну и мир", смогут насладиться первым вариантом этого великого романа; тех же, кто читал, ждет увлекательная возможность сравнить его с "каноническим" текстом. (Николай Толстой)

«Анна Каренина», один из самых знаменитых романов Льва Толстого, начинается ставшей афоризмом фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Это книга о вечных ценностях: о любви, о вере, о семье, о человеческом достоинстве.
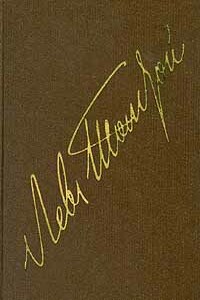
В томе печатается роман «Воскресение» (1889–1899) — последний роман Л. Н. Толстого.http://rulitera.narod.ru.

Детство — Что может быть интереснее и прекраснее открытия мира детскими глазами? Именно они всегда широко открыты, очень внимательны и на редкость проницательны. Поэтому Лев Толстой взглянул вокруг глазами маленького дворянина Николеньки Иртеньева и еще раз показал чистоту и низменность чувств, искренность и ложь, красоту и уродство...
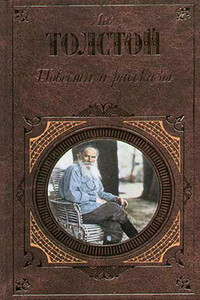
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) — великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно — ритмическая экспрессивность, пародоксальная метафоричность. В Собрание сочинений включены произведения, созданные М. Цветаевой в 1906–1941 гг., а также ее письма разных лет и выполненный ею перевод французского романа Анны де Ноаль «Новое упование».В первую книгу третьего тома вошли вызвавшие многочисленные и противоречивые отклики поэмы М. Цветаевой, а также написанные по мотивам русского фольклора поэмы-сказки.http://ruslit.traumlibrary.net.
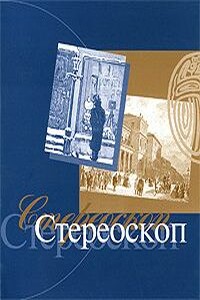
Кто может открыть путь в выцветшие страны прошлого?Снимки простые и двойные для стереоскопа загадочно влекут к себе, и тем сильнее, чем старее фотография. Неужели можно не заглянуть, а проникнуть туда – в застывший умерший мир?
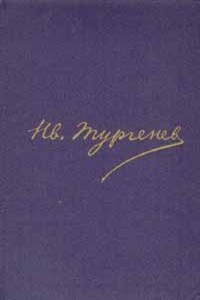
В восьмой том включены повести и рассказы: «История лейтенанта «Ергунова», «Бригадир», «Несчастная», «Странная история», «Степной король Лир», «Стук… стук… стук!» и «Вешние воды».http://ruslit.traumlibrary.net.

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению».

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 116, 4 июня; номер 117, 6 июня; номер 122, 11 июня; номер 129, 20 июня. Подпись: Паскарелло.Принадлежность М.Горькому данного псевдонима подтверждается Е.П.Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А.М.Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А.Треплевым, работавшим вместе с М.Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком – современники», М. 1928, стр.51).Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.
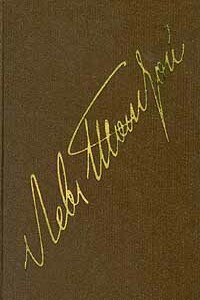
В томе печатаются избранные публицистические статьи Л. Н. Толстого 1855–1886 гг.: «Прогресс и определение образования», «О переписи в Москве», «Исповедь», трактат «Так что же нам делать?» и др., а также несколько незавершенных статей.http://rulitera.narod.ru.
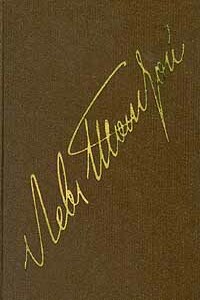
В первый том Собрания сочинений Л. Н. Толстого входят ранние художественные произведения писателя — трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». В разделе «Незаконченное. Наброски» печатаются незавершенные отрывки «История вчерашнего дня» и «Святочная ночь».http://rulitera.narod.ru.