Профили - [49]
11
Живописец, взявшийся за графику, становится философом собственного творчества.
Это признают, если вспомнят, что графика – самый отвлеченный и обобщающий вид искусства. Она – больше расчет, чем порыв, больше мысль, нежели чувство, больше проза, чем поэзия. Потому-то живопись всегда таинственней графики, и художник, переходя от палитры к перу, как бы разоблачает себя и из полумрака выносит на свет свое настоящее лицо. Может быть, следует даже сказать, что графика живописца есть только формула его живописи – сгусток, состоящий из главных черт его искусства.
Шагал прибегает к графике внезапно, часто и бурно. Ряд живописный и ряд графический у него пересекаются и скрещиваются. В долях, мотивах и сюжетах они необычайно близки. Есть графические темы, позже ставшие картинами; есть картины, перешедшие впоследствии в тушь и бумагу. Шагал – график столько же, сколько живописец. Поэтому графика у него – не побочный параграф его искусства. В ней нет места случайностям. Это не плоды творческих пауз или смутных раздумий, зачерченных на клочках бумаги, как чертит их большинство художников, если только они не графики по призванию. Графические создания Шагала еще более густы, насыщены и наполнены, чем его живопись. Но им и надлежит быть такими, потому что если над полотном Шагал творит свои образы, то над бумагой он размышляет о них, исследует их природу. В этом отношении очень знаменательно, что сейчас Шагал особенно много и охотно занимается графикой. Уже длинный ряд названий составляется из его графических работ. Иногда думается, что это обилие графического материала служит признаком того, что Шагал стоит перед завершением нынешнего периода своей живописи, ибо художник слишком усиленно осознает свою работу, чтобы быть в состоянии долго еще оставаться при своих теперешних темах и приемах. Однако преувеличивать значение этого было бы крайне неосторожно. Шагал никогда не становится аналитиком, классификатором, головным человеком. Он всегда горяч, и пусть его графика является лишь философией его искусства – она сродни той пламенной философии, которой некогда каббала опалила мысль и сердце средневекового еврейства. Потому-то Шагал, размышляющий о своих видениях, Шагал-график воспринимается еще острее Шагала-живописца. Читая графическую «книгу Шагала», читаешь как бы мастерской compendium его искусства, точный, лаконичный и четкий, в котором все на виду и нет недоговоренностей. Это – Шагал, как он есть.
В его живописи цвет и тон красок, легкость и меткость ударов кисти, хитрая сеть мазков заслоняют и скрадывают ярость духа, наполняющую полотно; они соблазняют своей собственной мягкой красотой. В графике же неистовый динамизм его искусства предстает нам совершенно обнаженным. Черные клочья, черные пылинки, черные узоры, черные сети, куски фигур и предметов, тугие, как бы закрученные до отказа, – они действительно бросаются на зрителя, месят его в своем водовороте и уносят. В образах своей живописи Шагал нередко бывает неуверенным; еще чаще неуверенно воспринимаем их мы; части картины кажутся нам иногда чересчур смутными, а видения – пойманными на лету, за одно крыло. Графика Шагала кристаллизована до последней степени; она найдена им безусловно и окончательно. О ней мыслим мы прежде всего, когда, пользуясь определением Гюго, говорим, что Шагал создал в искусстве «новый трепет».
12
В принципе живопись и графика взаимно противоположны и враждебны, но в творчестве одного художника таких отношений между ними быть не может, ибо примиряюще действует живая личность мастера. В этом случае они иногда даже окрашивают друг друга. В живописи проявляются тогда черты графической схематичности и остроты, а в графике можно наблюсти некоторую как бы живописную шкалу тонов и проблески светотени. Так обстоит дело с Шагалом. Для его живописи показательным образцом этого рода могут служить «Именины», возникшие в самый разгар последних графических «шагалесков» и явственно носящие на себе печать графичности. Но и графика Шагала – графика живописная, хотя бы уже по одному тому, что для нее характерны и отсутствие контура, и отсутствие сплошного пятна.
У Шагала есть прием, ставший знаменитым, вызвавший подражание друзей и недругов и являющийся осью его графической техники; благодаря ему появление образа на бумаге имеет следующую видимость: из бумаги начинают как бы проступать отдельные черные волокна штрихов разной крепости и нежности; продвигаясь к середине, они сгущаются, уплотняются, твердеют, переходят в заливные пятна, формируют ими опорные части образа, дают им окончательную чеканку; затем текут дальше, снова убывают в плотности и в массе, расщепляются, становятся прозрачнее, разреженнее, сетчатее, опять переходят в пучки волокон и отдельными нитями совсем пропадают в плоскости листа.
Надо ли говорить, насколько живописен по существу этот прием, применяемый Шагалом с изумительным, не знающим себе равного мастерством. Он предопределяет как отсутствие контурной линии, так и возможность в нужный момент использовать эффекты графической светотени. Благодаря этому приему линия контура действительно становится у Шагала только «подразумеваемой». Между частью одной и частью другой образа не оказывается никакой непосредственной связи. Лишь мысленно и непроизвольно, сквозь белые пустоты листа, от одной сети волокон к другой ведет зритель линейную границу и окаймляет образ. Таким образом, – и это второе важнейшее следствие – белая плоскость бумаги в графике Шагала является не фоном для образа, а частью его, живым, активным веществом, его формирующим и индивидуализирующим. И отсюда же типичные для Шагала рваные и расщепленные края фигур, тон густых и разреженных пылинок-точек вокруг предметов, ритмические ряды цветочков, кружочков, ромбиков, которыми он заливает костюмы своих графических героев, все это – варианты основного строя, так же как и отзвуки «рембрандтовской», штриховой, сетчатой светотени, которая то тут, то там пробегает иногда по шагаловскому листу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Лиственница» – первая публикация стихов Керима Волковыского в России.В книгу вошли стихи разных лет, переводы из Федерико Гарсиа Лорки и эссе «Мальчик из Перми», в котором автор рассказывает о встрече с Беллой Ахмадулиной полвека назад.

Друзья отвезли рассказчика в Нормандию, в старинный город Онфлер, в гости к поэту и прозаику Грегуару Бренену, которого в Нормандии все зовут «Воробей» — по заглавию автобиографического романа.

Литературный портрет знаменитого норвежского писателя Юхана Боргена с точки зрения советского писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
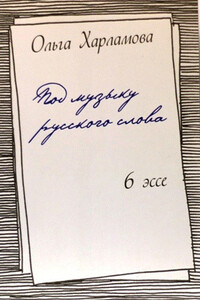
Эта книга о творческой личности, ее предназначении, ответственности за свою одаренность, о признании и забвении. Герои первых пяти эссе — знаковые фигуры своего времени, деятели отечественной истории и культуры, известные литераторы. Писатели и поэты оживут на страницах, заговорят с читателем собственным голосом, и сами расскажут о себе в контексте автора.В шестом, заключительном эссе-фэнтези, Ольга Харламова представила свою лирику, приглашая читателя взглянуть на всю Землю, как на территорию любви.