Профили - [3]
Ведь если верно, что Серов, с его беспощадной требовательностью к себе, испытывал настоящие муки творчества, то столь же верно, что публике достались не пот и боль, а плоды этих скрытых усилий – изысканная точность, артистизм, красота.
Впрочем, пристрастному взгляду Эфроса нельзя отказать в ценности особенного свойства – в энергии, с которой он мобилизует эстетическое чувство, согласное или несогласное. И вот что удивительно: искусство выигрывает в любом случае, подлинные его достоинства обнаруживаются тем яснее, чем более напряжены отношения сторон. В этом и состоит смысл живого искусства критики. Здесь нет места аксиологическому нейтралитету.
Свой энергичный стиль письма Эфрос гибко варьировал в зависимости от того, о ком или о чем шла речь. Конечно, жанр «Профилей» лишь условно определяется «портретной» доминантой; черты индивидуального облика значимы постольку, поскольку выражают творческую сущность личности, какой ее мыслит автор. Эфрос признавался, что это и рассказ о себе самом.
Метафорическая насыщенность текста «Профилей» оставляет в памяти глубокие следы. Эфрос слышит, как «трещат, стонут и скрипят» холсты Сурикова; мир Юона представляется «чуть-чуть нарочитым и игрушечным»; ранние вещи Кузнецова «действуют на зрителя, как шум раковины, поднесенной к уху»; нарядные предметы Сапунова «точно покрыты какой-то пылью времени, патиной тления»; Чехонин «гудит в свои ампирные формы, как в боевые трубы»; у книжника Нарбута «кровь смешана с типографской краской»; декоративный кубизм Альтмана – «скорлупа объемов», «почти картонажи, крашенные под бетон»… В каждом из этих крохотных фрагментов текста есть драгоценная точность.
А вот Фаворский в своевольном и тем не менее остром восприятии Эфроса: «Его разглядывают с двойным чувством восхищения и недоверия. Не верится, что эти неуклюжие пальцы могут создавать такие тончайшие вещи. Но этот большой, медведеобразный человек, с рубленным из коряги лицом, нависшей бородой, тугой речью и упругой мыслью, проходит воочию обремененный своим слишком большим искусством». Именно Эфрос наградил Фаворского титулом «Сезанна современной ксилографии»; в устах критика это звучало высшей похвалой.
Любопытна реакция самого Фаворского. Когда его спросили, как он относится к статье Эфроса о нем, художник ответил: «Да что ж, интересно. Я ему говорил, что ведь только это не я, не похоже, а он отвечал: когда вы портрет рисуете, вы же не соглашаетесь, что не похоже. Это-де вас не касается, не ваше дело. Ну, может быть. А книга его интересная – о каждом по-своему написать. Вот был вечер Павла Кузнецова, он там доклад делал, так он меня поражал – до чего он знал материал: все фактически, фактически, фактически. Каждый рисунок знал».
Да, Эфроса невозможно упрекнуть в пренебрежительном отношении к фактам; он знал истинную цену часов и дней, проведенных в библиотеках, архивах, музеях, мастерских. Однако, владея материалом, он работал с ним как художник и ревниво охранял свободу эстетического суждения. Он понимал, что знание, разлученное с художественной эмоцией, обречено на бездействие.
Историк искусства легко уживался в нем с критиком; во всяком случае, ему не требовалось визы, чтобы пересечь известную границу. Иной раз эта свобода раздражающе действовала на строго дисциплинированную мысль специалистов. Более того, он открыто провоцировал «жрецов и авгуров искусствоведения», отказываясь от стилистически нейтрального научного языка в пользу художественно-выразительной речи.
Дело не только в темпераменте прирожденного полемиста и ярких литературных данных – проблема лежит глубже.
Вне сферы переживания искусство превращается во что угодно и перестает быть самим собой. Ему необходим субъект, интерпретатор, «соучастник». Историю искусства нельзя отделить от художественно-эстетической рецепции, и здесь критика служит соединительным звеном. Хотя Эфрос не вдавался в герменевтические тонкости проблемы, интуиция говорила ему, что открытость искусства для интерпретации не ограничена текущим днем, а критическая субъективность не должна прятаться от самой себя – пусть речь выявит ее свободно. Это он и делал, словно принимая вызов искусства. Как бы то ни было, его тексты остаются живыми свидетельствами прошлого в настоящем.
Сергей Даниэль
Абрам Эфрос
… Прими собранье пестрых глав…
А. С. Пушкин
… Ceci est un recueil d’articles; j’aime,
je l’avoue, ces sortes de livres. D’abord on
peut Jeter le volume au bout de vingt pages,
commencer par la fin ou au milieu; vous n’y
êtes pas serviteur, mais maître; vous pouvez
le traiter comme journal; en effet, c’est le journal
d’un esprit.
H. Taine
( … Это сборник статей; признаюсь, я люблю этот вид литературы. Прежде всего, можно бросить книгу на двадцатой странице, начать с конца или с середины; вы не слуга, но господин; вы можете обращаться с ней как с дневником; это и есть дневник ума. И. Тэн (фр.))
Читателю предстоит со мной пройти как бы по вернисажу большой выставки. Я люблю это медлительное хождение из зала в зал, вдоль стен, с которых глядят полотна, и мимо художников, которые смотрят на них и на нас. Празднично, торжественно, немного глупо; чувствуешь в себе разом влюбленность и злость; воздух насыщен атомами признаний и ссор; вещи и люди живут одной жизнью; мастер, выставивший произведение, становится таким же экспонатом, как вещь, которую он сделал. Один из тончайших русских критиков, М. О. Гершензон, встретившись со мной на выставке, просил, осмотрев картины, показать ему художников. Мы ходили по комнатам, и я говорил ему: «Вот Икс, а вот Игрек». Он разглядывал их с пристальностью писателя. Конечно, он был прав; это так же значительно и так же художественно. Черты искусства и очерки современников пройдут и по моим страницам. В какой последовательности? В каком выборе? Пожалуй, в прихотливом, потому что живом. Несомненно, это выбор моего вкуса и, вероятно, моих пристрастий. Одни отмечены, другие обойдены, перед одними я стоял дольше, перед другими только коротко задумывался. Это не значит, что я исчерпал свои впечатления; в следующем томе будут те, о ком здесь я молчу. Но они будут так же разны, ибо это не история искусств, а страницы художественной критики, т. е. результат живых встреч и столкновений, – может быть, столько же рассказ о себе, как о них, рисующих, пишущих, ваяющих. Критика есть искусство зрителя. Это художественная эмоция, обусловленная художественным знанием. Она объективна изучением материала и субъективна его восприятием; первое – есть ее начало, второе – ее финал. Я делал то же. Я лишь вносил в свое искусство оттенки, свойственные моему критическому жанру – жанру портретиста. Я пользовался той свободой, какой обладает современный художник в отношении своих моделей. Натурализм – течение отжившее, и вместе с ним ушло в историю и требование старой эстетики, чтобы изображение было копией изображаемого. Сегодняшний портретист столь же любит крайнюю экспрессивность выражения, как и абстрактную игру форм. Нынешние портреты кажутся либо изображениями людей с удвоенной психикой, либо же портретами людей, изуродованных природой. Поэтому иногда эти портреты не портретны вовсе, являясь простым поводом для композиционной игры объемов и плоскостей; но обычно они портретны вдвойне, отражая столько же модель, сколько и художника. Каковы они у меня, пусть судит читатель: похожи ли они – или это больше автопортреты, нежели портреты, – или, увы, это только вариации на разные темы. Во всяком случае, художники поставлены здесь в то положение, в которое они сами, работая, ставят других и в котором не раз приходилось бывать мне, когда портреты делались с меня. Я прошу понять, что это не проповедь критического произвола, а итог сознания, что художественная критика есть живое искусство и что она этим и пьянит. Не будь в ней этого, она ничем не отличалась бы от научного исследования, с его точностью метода, очерченностью темы и суровостью стиля. Моим очеркам это не к лицу, я готов сказать: не под силу, – дабы не было обид. Если я не скорблю об этом, то потому, что знаю: и художники, и искусство, и мои слова о них – все будет только материалом для историка на предмет каких-нибудь важных приговоров нашей эпохе. Заранее принимаю свой приговор, дабы жить
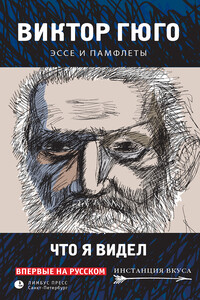
Виктор Гюго (1802–1885) известен русскому читателю прежде всего как автор романов «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», «Девяносто третий год» и др. Но роль Гюго в культурной, общественной и политической истории XIX века – причем не только Франции, но и всей Европы – несоизмеримо шире. Он был одним из самых ярких публицистов эпохи, к его голосу прислушивался весь мир. В этой книге собраны самые значительные выступления писателя – в печати и в парламентских слушаниях – по самым насущным вопросам культуры и политики его времени.

Эти записки (иностранное слово эссе к ним не применимо) созданы в конце прошлого тысячелетия. С тех пор я многократно пытался их опубликовать. Не вышло, не формат. А в родном ЖЖ — всё формат. Читайте.
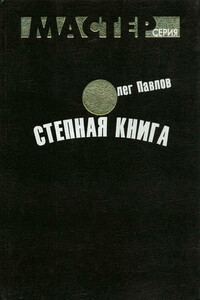
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Устремлённость в будущее – вот отличительная черта идеологических учений, завладевших умами человечества в индустриальную эпоху. Гуманизм и справедливое, разумное мироустройство, рациональное управление обществом – таковы элементы стройной социальной системы будущего, созданной умами выдающихся утопистов минувших столетий. Могли ли предвидеть Кампанелла и Томас Мор наступление эпохи научно-технической революции, изменившей условия жизни рода людского во второй половине двадцатого века?А человечество, между тем, всё ещё вымирало целыми городами от эпидемий, с чудовищными затратами открывало новые земли и изобретало простейшие механические устройства.Так продолжалась до тех пор, пока «атмосферный двигатель» Томаса Ньюкомена не втащил род людской в эпоху научно-технического прогресса.

«Для той же самой России в ее какой-то, может быть, почти не существующей или совсем не существующей, но витающей над нами астральной модели – иными словами,для «идеалистической России» – имена Синявского и Даниэля навсегда останутся символами борьбы и даже победы. Судилище 1966 года, вместо того чтобы запугать, открыло в обществе существование какого-то трудно объяснимого резерва свободы, то ли уцелевшего со старых времен, то ли накопившегося заново…».