Профили - [13]
4
Рисовать Суриков не любил и потому не умел. Карандаш его не радовал. Для него это был лишь рабочий инструмент. Он просто закреплял то, что нужно было удержать в памяти. Рисунки Сурикова всегда являются черновиками. Даже когда он долго трудился над ними, их характер не менялся. Время уходило на верность передачи, а не на художественность исполнения. Это почти не было искусством. Суриков относился к рисунку примитивно. Он требовал от него только полезного действия; он его не холил; он рисовал лишь то, что могло пригодиться. Самостоятельных рисунков у него нет; это всегда делалось для чего-нибудь; тут накапливался материал записных тетрадок; они предназначались для будущей работы. На отдельное существование они были непригодны. Использовать их могли впоследствии еще разве что исследователи суриковского искусства; но это менее всего способно было изменить их существо; подобный материал вовсе не обязан быть художественным; для биографа и критика в той же степени важны документы, письма, воспоминания.
Рисунки Сурикова вызывают в памяти черновые записи из дневников Толстого: «Ягоды-грибы. Сено преет. Гречиха лопается. Навоз пахнет», – или: «Грибы. Шум ручьев. Птицы. Бабы. Мальчишки босиком – ноги белые», – или еще: «Белые грибы. На репьях пчелы. Плод на липе. Запах яблока» и т. д. Суриков рисовал так же упрощенно и схематично. Это наливалось соками и цвело лишь потом, в живописи. Его всегда упрекали в тяжеловесности. Во всяком случае, его рисунки приземисты и почти что неуклюжи. Они очень бедны; они не могут привлечь даже человека с невыработанным вкусом. Но этого они и не ищут. В них нет и первой капли той игры, которая превращает сырой материал в произведение искусства. Суриков их водит, так сказать, в рабьем виде. Они выполняют тяжелую работу для его живописи; только для этого они созданы; их назначение подчиненное. Они служат ей, трудятся ради нее, мучаются там, где она появляется уже на приготовленное и найденное. Такой суровости не знает вся история рисунка. Для новейшего времени она даже парадоксальна. Рисунок – это любимец художников, легкий щеголь, успешный остряк, почти что законодатель вкусов; во всяком случае, он равный среди равных в кругу искусств. Суриков же держит его на низшей ступени; это простейший регистратор накопленных кусочков жизни или черновой конструктор задуманной картины. Его рисунок – только идеограмма образа, формула типа или схема композиции.
На вступительном экзамене в Академию Суриков провалился по рисунку. Он должен был много и горько проработать, чтобы снова добиться приема. Можно сказать, что потом он за это расплатился с Академией сторицей. Разница между его академическим рисованием и самостоятельными рисунками не просто велика, но декларативна. Классные этюды натурщиков и наброски заданных программ соблюдают установленные каноны. Может быть, и через силу, но учащийся Суриков послушен. Его карандаш тонок, податлив и легок; он скользит и играет с бумагой; он даже почти щеголяет округлостями моделировок и мягкостью светотеней. Он безличен старательным школярством ученика, ищущего медалей. «Апостол Павел», «Клеопатра», «Исцеление Товита» могли быть сделаны каждым академистом. Пожалуй, можно поверить, что их выполнял ученик Чистякова, но, глядя назад, изумляешься, что ученик носил фамилию Сурикова. Это было укрощение строптивца, а не обращение верующего. Знаменитый учитель добился подчинения, но не увлеченности. Вернее, он здесь оказался в одном ряду с вицмундирными Шамшиными и Шренцерами. Суриков не стал чистяковцем. Из всей плеяды больших художников, прошедших через эти руки, Суриков один, кажется, не пожелал сохранить чистяковских заветов. Он отрекся от них, как только оказался вне воздействия конкурсов и отличий. В первых же зарисовках к «Стрельцам» он уже неузнаваем. Можно сказать, что он сломал свои академические карандаши, выбросил резинку и назло, упрямо, по-свойски каким-то куском незаостренного графита стал чертить по бумаге. Кажется, будто и в самом деле его не пускали ходить даже мимо ворот Академии, как грозился на экзамене инспектор. Он опять превратился в казацкого парня из Красноярска – в невышколенного самоучку. Его рисунок очень крепко сшит, но и столь же нескладно скроен. С 1878 года и по эпоху «Разина» Суриков действует огрызками карандаша на первых подвернувшихся листах. Он равнодушен к качеству бумаги и к приемам рисования. Тонкий ли, грубый ли штрих, пятно или сетка – для него почти безразлично. Его кухня даже неряшлива. Он бороздит лист, чернит его, грязнит, мнет, вспахивает. Он тут же перечеркивает, переделывает, поправляет. Он прокладывает по контуру новый контур и по пятну другое пятно. Есть какая-то неумолимость в том, как втискивает он в бедную плоскость лицо, фигуру или сцену. У него тяжелая рука; он налегает на карандаш, как на соху.
У рабочего рисунка может не быть развития. Он сохраняется неизменным, пока удовлетворяет своему техническому назначению. Живая эволюция художественного явления для него не обязательна. Суриковский рисунок неподвижен. В нем есть всего две разновидности – академическая и зрелая. Это постоянные величины, хотя первая насчитывает всего пять лет, а вторая – четыре десятилетия. В этих сорокалетних границах можно бы переместить названия и даты – и почти не найти разницы. Стрелецкие рисунки таковы же, как разинские. Даже творческая высота «Боярыни Морозовой» не отразилась совершенством карандашных работ. Серия ее композиционных вариантов, свидетельствующая об огромном напряжении поисков, как-то особенно схематична. Более чем когда-либо, это чаще чертеж, нежели рисунок, и скорее пометка, чем образ. Если это искусство, то оно – косноязычно. Может быть, надо только добавить, что один из русских поэтов называл такое косноязычие «высоким».
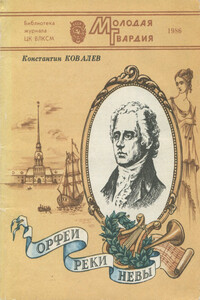
Константин КОВАЛЕВ родился в 1955 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. Работал корреспондентом еженедельника «Литературная Россия», редактором — составителем «Альманаха библиофила». Автор ряда критических статей, переводов, очерков и публикаций по истории Москвы, древнерусских городов, о книжной и музыкальной культуре. Член Союза журналистов СССР. «Орфеи реки Невы» — первая книга молодого писателя.
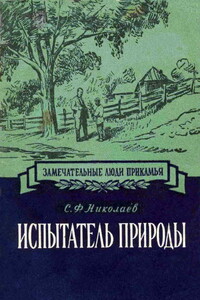
Брошюра посвящена жизни Павла Васильевича Сюзева — русского и советского ботаника-флориста, краеведа и географа.

«Особое чувство собственного ирландства» — сборник лиричных и остроумных эссе о Дублине и горожанах вообще, национальном ирландском характере и человеческих нравах в принципе, о споре традиций и нового. Его автор Пат Инголдзби — великий дублинский романтик XX века, поэт, драматург, а в прошлом — еще и звезда ирландского телевидения, любимец детей. Эта ироничная и пронизанная ностальгией книга доставит вам истинное удовольствие.


