Профессия: театральный критик - [5]
Нет и не может быть счастья в мире, где властвует слепой и неумолимый к людям рок, утверждает фаталист и стоик Сенека. Человек— всего лишь игрушка судьбы, жертва рока и одновременно его орудие. Такова его Медея — ревнивая, готовая простить Язона. Медея, одержимая страстной жаждой разрушения. Таков Язон— жалкий, теснимый врагами изгнанник, мучимый сознанием своего вынужденного предательства. Мир страшен, человек в нем обречен — вот о чем написал свою "Медею" Сенека.
Трудно не заметить близость трагедии Ануя сенековской "Медее". Она не только в многочисленных текстуальных совпадениях. Близость прежде всего в общей концепции: в восприятии мира, в роковой обусловленности судеб героев, в отказе от суда над ними. Но одновременно Ануй воспринял от Еврипида мотив "скромного счастья". Осмысляя его, драматург занял по отношению к героям хотя и двойственную, но определенную позицию.
В "Медее", как почти во всех своих пьесах, Ануй ополчается против бездуховного нищенского "счастья" мещан, против счастьица-прозябания, которого домогаются и которое получают обыватели. Принципы этого "счастья" дано в "Медее" сформулировать Кормилице.
Вместе со Стражником она обречена выжить и добиться своего. Много она не хочет— согретая солнцем скамья, горячая похлебка, глоток винца перед сном—оно так славно согревает нутро... Все это звучит просто. И— кощунственно, ибо— рядом с воплями Медеи, мучительными размышлениями Язона. Но мотив "счастья" в "Медее" не однозначен.
Ануй дает протагонистам — Медее и Язону — до конца высказать их отношение к "счастью", воплощенному в Кормилице. Медея ненавидит "смрад счастья". Такое вот счастье, захватанное мещанами, запятнанное обывателями, "всегда бежало" от трагической героини Ануя.
Да, Медея восстает против "смрадного счастья", против пресмыкательства перед миром-хаосом. Но к чему она приходит? Она полна гордыни, ненависти к человеку, эта Медея, которая "живет только собой, отдает лишь для того, чтобы взять", которая "навеки прикована к себе самой". Бунт разрушает душу Медеи и не дает ей ровным счетом ничего взамен. "От меня смердит, Язон!"— кричит Медея. Не далеко ушла Медея от Кормилицы.
А Язон? Почему Язон наперекор всему стремится к "счастью, простому счастью"? Что же он, не видит жалкую карикатурность этого "счастья"? Нет, видит; он презирает то, к чему стремится. Но он жаждет счастья во что бы то ни стало — как защиту от губительного индивидуализма Медеи. Разве не мечтают тщетно о счастье и не чувствуют своей неполноценности ануевские борцы против мещанского благополучия? Очень даже мечтают, очень даже чувствуют. Ануй в глубине души сознает: человеку исконно присуще стремление к счастью, несчастный человек — это человек урезанный, ущербный, достойный жалости. Так не справедливо ли в своей основе стремление Язона к счастью? Справедливо, роняет Ануй. И тут же оговаривается: в мире "Медеи" возможен только один вариант счастья — вариант Кормилицы. Иного не видит ни герой, ни драматург.
Вот тут-то возникает параллель с ануевской "Антигоной". Та же проблема счастья ставится драматургом в этой пьесе и столь же метафизически им решается, только там она сведена к отчетливой до схематизма альтернативе: Антигона отказывается от "счастья", цена которому — компромисс с обывательщиной; Креонт это счастье принимает и его принципы отстаивает. В "Антигоне" победа оставалась за сказавшей "нет" счастью. Потому что сказать "да" — значило тогда, в годы Сопротивления, пойти на компромисс с фашизмом. Но ведь есть в пьесе мгновения, когда Антигона ощущает трагизм своего одиночества, бессмысленность своей жертвы. И ведь Креонт, этот человек, "который хочет организовать мир для счастья и жизни", человек, "приносящий в жертву истину и разум, отдающий себе в этом отчет и страдающий от этого, не лишен величия" (Р.-М. Альберес). Там, в "Антигоне", эти мотивы были только едва слышны.
Ануй переосмыслил прежние мотивы в мирное время, когда постепенно выяснилось, что идеалы Сопротивления преданы, что мало что изменилось, что некому так вот прямо в лицо бросить гневное "нет"... И в "Медее" они зазвучали в полную силу.
К "Медее" Драматический театр имени К. С. Станиславского Обратился почти что вслед за "Антигоной". Театр стремится "освоить" пьесы одного из интереснейших и своеобразнейших французских драматургов и готов идти ради этого на смелый эксперимент. Как эксперимент, сопряженный с немалым риском, и следует, на наш взгляд, рассматривать этот спектакль.
В постановке Б. Львова-Анохина достигнута редкая согласованность всех элементов театрального действия. Пространственное и изобразительное решение спектакля, игра актеров, музыка, свет— все здесь приведено к единству. Все исполнено особой многозначительности, все рассчитано создает особую тревожную атмосферу. Можно без преувеличения сказать, что театру удается найти стиль, адекватный ануевскому трагическому театру.
Пустая сцена, в центре которой стоит прямоугольное каменное ложе, погружена во мрак. Из темноты герои вступают на чуть наклоненный к рампе пол сцены, и в ней же они растворяются. Им сопутствует заунывная, полная трагических предзнаменований музыка. Зыбкий хаос звуков заполняет паузы, возникающие в действии. Он находится в согласии со смятенными переживаниями героев и одновременно контрастирует с воспаленными "злыми страстями" Медеи и Язона. Музыка звучит в спектакле под сурдинку, негромко — отрезвляюще негромко, чуть равнодушно.

«…Это решительно лучшее из всех «драматических представлений» г-на Полевого, ибо в нем отразилось человеческое чувство, навеянное думою о жизни; а между тем г. Полевой написал его без всяких претензий, как безделку, которая не стоила ему труда и которую прочтут – хорошо, не прочтут – так и быть!…».

«…Не знаем, право, каковы английский и немецкие водвили, но знаем, что русские решительно ни на что не похожи. Это какие-то космополиты, без отечества и языка, какие-то тени без образа, клетушки и сарайчики (замками грешно их назвать), построенные из ничего на воздухе. В них редко встретите какое-нибудь подобие здравого смысла, об остроте и игре ума и слов лучше и не говорить. Место действия всегда в России, действующие лица помечены русскими именами; но ни русской жизни, ни русского общества, ни русских людей вы тут не узнаете и не увидите…».

«…К числу особенных достоинств статей, помещаемых в этом издании, должно отнести их совершенную соответственность и верность идее и цели: так, например, «Уральский казак» – это не повесть и не рассуждение о том, о сем, а очерк, и притом мастерски написанный, который в журнале не заменил бы собою повести, а в «Наших» читается, как повесть, имеющая все достоинство фактической достоверности…».

«Во все времена человеческой жизни, с тех пор как люди себя помнят, были войны. Войны, с тех пор как существуют государства, начинались правительствами, а кончались – борьбой сословий; бедные принимались бороться с богатыми. Богатые противились и не хотели уступать. Тогда начинались народные движения; более долгие и более мирные движения называются реформациями, а более короткие и более кровавые – революциями…».
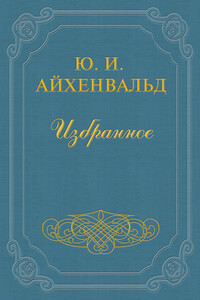
«Характерно для Левитова, что бытописатель, прикованный к месту и моменту, постоянно видя пред собою какое-то серое сукно жизни, грубость и безобразие, пьяные толпы России, крестьянскую нужду и пролетариат городской, он в то же время способен от этой удручающей действительности уноситься далеко в свою мечту – и она, целомудренная, поэтическая, сентиментальная, еще резче оттеняет всю тьму и нелепицу реальной прозы. В нем глубоко сочетаются реалист и романтик…».
