Проданные годы [Роман в новеллах] - [50]
Повилёкас выхватывает из горна толстую железную ось. В кузне сразу становится жарко. Люди на минуту отхлынут в стороны, утихнут все разговоры, лишь несутся вверх ослепительные звезды да бухает большой молот Повилёкаса. Им ударяет один из мужиков, а Повилёкас придерживает ось, звонко вторит молотком. Под ударами железо темнеет, от злобы становится густо-багровым, глушит летуньи-искры, лишь кое-где поблескивают, посверкивают огоньки… Под крышей кузни опять завывает ветер, и вот уж стало прохладнее, и опять шумит горн. Молотобоец задыхается, но доволен, что выдержал, что не ударил мимо. Улыбаясь, утирает пот, свысока поглядывает на других. А в кузне опять начинаются разговоры, раздается смех…
Эх, побыть бы так на людях год, побыть другой, побыть и третий, и все не надоело бы, все не захотелось бы никуда уходить. Но является Салямуте в надвинутом на глаза платке и зовет завтракать, зовет обедать, зовет ужинать. Опять нужно идти в избу, опять сталкиваться с домашними, со стариком.
В доме неладно. Старик вечно лежит, выпятив обрюзгшее лицо, неотрывно глядит на всех, словно уж на яйца, и нет во всем доме такого угла, где бы можно было укрыться от этих глаз. Трудно ворохнуться, не хочется ничего говорить, боязно улыбнуться; шаг ли шагнул, за стол ли присел, все кажется: может, не так, может, старику опять не понравится? Потому все здесь ходят, словно паклей подавившись, говорят полушепотом, как на похоронах, а больше переговариваются руками и глазами. Даже Повилёкас мрачнеет, быстро работает ложкой, спешит выхлебать щи и убежать. А старик глядит, глядит и глядит и молчит как пень. Только позже, когда всем становится невмоготу, скажет:
— Так чего замолчали все? Чего рыла от меня воротите? Или я вам супостат какой, не отец?
— Выдумываешь ты, Пеликсюк, — отзывается старая. — И не воротим, и ничего такого…
— Я детей спрашиваю, не тебя. Растил, холил, теперь никто слова не скажет.
И начнет поедом есть. Повилёкаса за утаенные деньги, Юозёкаса за молчаливость, Казимераса за разговорчивость, жену за поблажки детям…
Наругается, наизмывается, а потом довольно засопит носом и спрашивает всех по порядку:
— Ты чего насупился? Правда глаза колет?
— Не насупился я…
— Вижу, вижу. Когда отец правду не скажет, кто еще скажет? Собака на выгоне скажет?
Не задевает он одну Салямуте. А та как надвинула платок на глаза в тот вечер, когда я приехал, так и не открывает их перед людьми. Вдобавок всегда колючая, чуть что, сейчас фырк-фырк, будто кошка на собаку. И все подлещивается к старику. То свежего рассола зачерпнет ему из кадки, то лепешку помасленей подаст, то запарит льняного семени согреть ноги, то еще что придумает. И все поближе, поближе к старику, постоянно присаживается на кровать, заговаривает, урезонивает сварливого отца, подтыкает, оглаживает, ластится… И я уж впрямь начинаю верить, что Ализас не врал, что золото есть в этом доме, что золото это прикарманит не кто иной, как Салямуте. Досадно и горько, что она, а не мы с Ализасом или хоть бы Повилёкас. Все бы, кажется, сделал, чтобы только она не захватила! Но никак я не нападу на деньги, хотя ищу, едва улучу минутку, и слежу за Салямуте по мере возможности…
Слежу не я один. Все следят. И не за одной Салямуте. Все следят друг за другом, доглядывают один за другим, ловят один другого, но никто никого не поймает. Потому в избе как-то трудно дышать, словно бы воздух прокис или еще что. А золота нигде ни следа.
По утрам, как только начинает светать, старая хозяйка поднимается с постели, покашливая, идет в сени, нашаривает в темноте лестницу и лезет на подволоку. Лезет и на каждой ступеньке приговаривает:
— Дай господи найти — не дай господи не найти. Дай господи найти — не дай господи не найти.
— Тетенька! — кричу я снизу. — Ты это мне говоришь?
Старуха останавливается. В темных сенях слышно, как она пыхтит, отдувается, переводя дыхание:
— Это я, сынок, молитвы… А ты прочел?
И идет дальше. А лестница высокая, пока доберется до подволоки, совсем запыхается старуха, и ее молитва сильно укорачивается:
— Дай господи — не дай господи!..
Врет старуха. Не молитва у нее на уме. Вздумали куры с нашего двора нестись на подволоке. И несутся. Старухе-то все едино, лишь бы не по чужим закоулкам, можно ведь собрать. И она лезла на подволоку каждое утро. А потом стали яйца пропадать из гнезд. Взберется старуха, отдувается, даже за бока держится, а наверху пусто. На другое утро опять то же самое. И курицы, кажется, кудахтали, и петух кричал, а пусто. Покоя лишилась старуха, влезает утром и не знает: найдет что в гнезде или не найдет? Потому и бормочет:
— Дай господи — не дай господи… дай господи — не дай господи…
Кто ворует яйца — неведомо. Может, хорек, а может, и Салямуте. Все воруют. Все следят друг за другом как одержимые, и все воруют. Воруют всё. Первый раз вижу таких хозяев, чтобы тащили в своем же доме. У каждого из них есть свой укромный угол, и каждый старается что-нибудь хапнуть, утянуть в этот угол. Хватают что попало: старое тряпье, железный лом, горшки, веревки, копченые окорока, пустые мешки, деревянные башмаки, круг колбасы, мочку льна, зерно и яйца, обрезки домашнего сукна и холщовое исподнее… Хватают друг у друга на глазах, друг у друга из-под носа. Куда только кто забежит, там словно тает все! Отковал Повилёкас кочергу, собирался насадить на черен, отвернулся обтесать его, а кочерга уж пропала. Проходя сенями, всегда можно было видеть под крышей на перекладине старое седло. Встаем однажды утром, а седла нет. Казимерас кинулся туда-сюда — никто ничего не видел, не слыхал, не знает. Поставила старуха с вечера хлебы, а муку на подмес, насыпанную в короб, оставила в чулане, где жернова. Встала на заре, идет тесто месить, а из короба выбрано, на самом дне малая толика осталась… И все удивляются этому воровству, пожимают плечами, сопят, бранятся, ищут вора в глазах у другого, а вора, понятно, нет. Старуха качает головой:

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
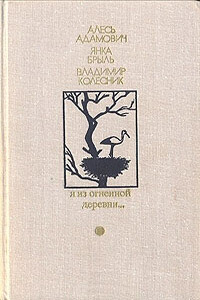
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.

Роман И. Мележа «Метели, декабрь» — третья часть цикла «Полесская хроника». Первые два романа «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» были удостоены Ленинской премии. Публикуемый роман остался незавершенным, но сохранились черновые наброски, отдельные главы, которые также вошли в данную книгу. В основе содержания романа — великая эпопея коллективизации. Автор сосредоточивает внимание на воссоздании мыслей, настроений, психологических состояний участников этих важнейших событий.
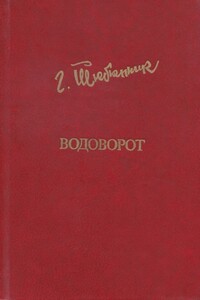
Роман «Водоворот» — вершина творчества известного украинского писателя Григория Тютюнника (1920—1961). В 1963 г. роман был удостоен Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко. У героев романа, действие которого разворачивается в селе на Полтавщине накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны — разные корни, прошлое и характеры, разные духовный опыт и принципы, вынесенные ими из беспощадного водоворота революции, гражданской войны, коллективизации и раскулачивания. Поэтому по-разному складываются и их поиски своей лоции в новом водовороте жизни, который неотвратимо ускоряется приближением фронта, а затем оккупацией…
