Проданные годы [Роман в новеллах] - [44]
— Ужин давайте, — пробормотал он.
Мы уселись. Хозяйка принесла миску с дымящейся картошкой, простоквашу, желтые огурцы, пахнущие укропом. Брякнула на стол кучу деревянных ложек.
— Которая тут моя? — спросил я.
— Которую схватишь, та и твоя, — отозвался Повилёкас. — Гляди только, чтобы с ямкой была и не худая. Без ямки ложка не ложка.
— За стол сядешь, Пеликсюк, или на кровать тебе принести? — повернулась хозяйка к мужу.
Старик храпел, не отзываясь. Хозяйка вздохнула, села с нами, схватила необлупленную картофелину, покатала на ладонях, согревая руки.
Опять скрипнула дверь. Вошла девушка-невеличка, с покатыми плечами, в шнурованных ботинках на высоких каблуках, повязанная беленьким платочком. Казимерас нагнул голову, старательно выковыривая пальцем глазок картофелины. Девушка зорко глянула на него, на других и быстрым движением надвинула платочек на глаза.
— Хоть к ужину явилась, — покачала головой хозяйка. — Ой Салямуте, Салямуте, добром ты не кончишь…
Салямуте шмыгнула носом, подошла к кровати.
— Папашенька, — протянула тонким, жалобным голоском, — а что же ты ничего не кушаешь?
— Кто же мне даст? — прохрипел старик, вдруг проснувшись. — Расселись все, чужого вон с собой посадили, кто же обо мне, старике, вспомнит?
— Я сама подам, будешь есть? Горяченькую картошку облуплю, помакаешь в соль… Рассыпчатая картошечка. И шкварки в черепке еще есть, перед уходом сама поставила на угли, чтобы горячими тебе подать.
— Так подавай.
Охая, отдуваясь, с передышкой после каждого движения, усаживался старик на кровати. Лишь теперь я увидел, какой это рослый, костистый человек, чего бы не подумал, когда он лежал под одеялами. Лицо обрюзгшее, под глазами водяночные мешки, левый ус слежался концом вниз, правый — оттопырился вперед, как заиндевевшая метелка, а указательный палец правой руки странно скрючен, сросся, впившись ногтем в ладонь. А уж глаз почти не видать — совсем завалены щетиной бровей, заплыли отеками. Быстро собрав ужин, Салямуте пододвинула ногой чурбачок Юозёкаса, села на него, уперлась локтями в край кровати.
— Папашенька, вот и я поем с тобою. Мы уж тут оба.
— Одна ты, одна во всем доме… — умилился старик, подозрительно оглядывая дочь. — Бог тебе зачтет, когда дождешься старости. Бог все зачитывает.
— Что господь определит, то мне и ладно будет, — весело чавкая, ответила дочь. — Если только удостоюсь, вознаградит и не дожидаясь моей старости.
Старик перестал жевать:
— Опять запела о приданом? Поесть не дадут человеку.
— Папашенька, папашенька, — Салямуте чмокнула отца в руку. — Да что ты, право? Приданого у меня ни в уме, ни в разуме нет. Кушай, поправляйся, не теряй времени. Разве не видишь: дом скучает по хозяйском руке, все по ветру пустили… А приданое что? — опять чмокнула отца в руку. — Казимерас голую не возьмет, приведет с выделом, вот мне и приданое, и ничего из дома не нужно. Кушай, папашенька.
— Пой, пой, а я подтяну, — ответил старик, успокаиваясь.
Так мы и ели: одни за столом, другие у кровати. И видно, в этом доме часто так ели. Ни хозяйка, ни Казимерас, ни Юозёкас не вымолвили ни слова. Лишь Повилёкас, громко чавкая, ел огурец, стараясь стрельнуть рассолом сквозь зубы, и все подмигивал мне: «Что, весело у нас?»
Кончился ужин. Кончились и мои перья. Хозяйка взобралась на печь, долго ворочалась, бормотала молитвы, пока наконец не заснула. Казимерас с Юозёкасом зажгли фонарь, незаметно исчезли из избы. Салямуте шмыгнула в горницу.
— Махнем и мы, — сказал Повилёкас, стаскивая с перекладины кожух. — В чулане на сундуке тебе постелю…
— Не тронь кожуха, — прохрипел старик.
— Свой кожух беру, не твой… или не видишь?
— Сперва скажи, каким льном заплатишь?
— А ты, папаша, опять за старое.
— Не тронь кожуха, говорю! Ты меня спросил, когда лен просаживал? Говорил я тебе про лен, когда ты уезжал? Тебе что было сказано? Не тронь кожуха!
— Отец! Если уж так… — голос Повилёкаса задрожал. — В кузнице я тебе на десять таких пучков накую, чтобы их черт взял. С лихвой свое получишь…
— А кузница твоя? А уголь чей жжешь? А? Каждая выкованная копейка — мне причитается. Он, видишь, накует мне!
— Если причитается — я и отдаю, гроша ломаного себе не оставляю. Дай кожух, завтра ведь не праздник, сам всех поднимешь еще затемно.
— А мятную на что пьешь, а? Подойди, дохни, коли неправду говорю. А-а! Так откуда лен возьмешь пастушонку?
— А, подавиться бы… — пробормотал Повилёкас.
Махнул рукой и пошел в сени, так и не стащив кожуха.
— Задуй огонь, — напал старик теперь на меня. — Керосином чадить тут приехал?
Я задул. Изба сразу наполнилась густыми сумерками, белели только окна, и, как призрак, маячила печь. Сел я опять за стол. В заднее окно избы виднелся занесенный снегом палисадник. Там торчал голый куст жасмина, потом несколько слив, частокол. За частоколом — опять сугробы, завалившие деревенскую улицу, за ними — небольшая приземистая кузница, а еще дальше, уже трудно различимые, — рига, сараи, какой-то навес… Все казалось умиротворенным, притихшим, погруженным в глубокую дремоту. Притих и старик на кровати, даже не храпел теперь, как давеча. Прошло много времени. Видно, так и придется просидеть первую свою ночь на новом месте. Но тут тихо отворилась дверь, вошел Повилёкас. Осторожно подкрался к кровати, потянулся в темноте к перекладине.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
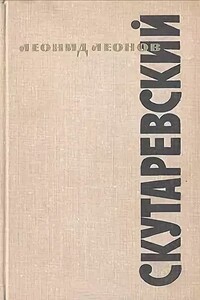
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
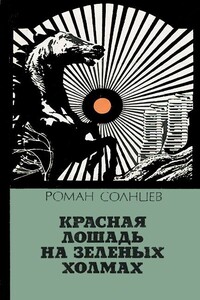
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.
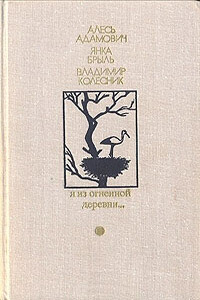
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.

Роман И. Мележа «Метели, декабрь» — третья часть цикла «Полесская хроника». Первые два романа «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» были удостоены Ленинской премии. Публикуемый роман остался незавершенным, но сохранились черновые наброски, отдельные главы, которые также вошли в данную книгу. В основе содержания романа — великая эпопея коллективизации. Автор сосредоточивает внимание на воссоздании мыслей, настроений, психологических состояний участников этих важнейших событий.
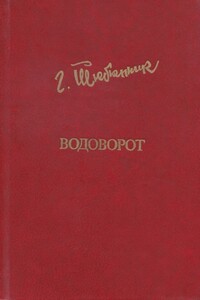
Роман «Водоворот» — вершина творчества известного украинского писателя Григория Тютюнника (1920—1961). В 1963 г. роман был удостоен Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко. У героев романа, действие которого разворачивается в селе на Полтавщине накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны — разные корни, прошлое и характеры, разные духовный опыт и принципы, вынесенные ими из беспощадного водоворота революции, гражданской войны, коллективизации и раскулачивания. Поэтому по-разному складываются и их поиски своей лоции в новом водовороте жизни, который неотвратимо ускоряется приближением фронта, а затем оккупацией…
