Приключения сомнамбулы. Том 2 - [8]
– И как тебе в новом свете наше школьное сочинительство? – каждый абзац ведь продолжал другой автор. Не обогнали ли мы своё пугливое время?
– Не то, не совсем то, – отглотнул Валерка, – линейных, последовательных сцеплений мало, где сращивания, наслаивания отличий?
Затея уязвимая, близкая мечтаниям засидевшейся в девках невесты об интегральном женихе. Или – зеркальным терзаниям Подколесина… Однако это был всего лишь модельный ход: реально ли собрать под одной обложкой художников, которые почему-то подрядились бы сочинять свои фрагментики для некоего мета-автора, властвующего над целостным текстом? Взрослый лепет? Нда-а, какой там Подколесин, модель слишком амбициозна, чтобы торопливо – от греха подальше – в окошко выпрыгнуть! Отважный Валерка, похоже, провозглашал очередную – вслед за Джойсом? – попытку состязания с Библией, которая оставалась вечным и всемирным бестселлером. Стало быть, сочинять фрагменты, имитируя контрастность их содержаний-стилей, то выпячивая, то сглаживая отличия, был обречён один-единственный, само-собой монстровидный, коли на такое замахивался, автор-собиратель. В этой наспех набросанной за вкусной едой, близкой лекционным фантазиям Шанского подвижной модели текста – кстати, пространственное подобие её смутно проступало и в проектных мечтаниях Соснина; не потому ли Бухтин находил и ценил в нём благодарного слушателя? – именно композиции как неосознанной, но ведущей категории сверхсодержательности и надлежало порождать неожиданно-острые впечатления, переживания.
Валерка снова что-то помечал в блокноте, Соснин мог спокойно доесть омлет.
Итак, Валерка, никогда не боялся высоких слов – о высоком, так о высоком! Пусть и с романтическим скепсисом, он провозглашал художника всевластным инвентаризатором мироздания, образно перемещённого во внутренний мир, и художник этот обречён был, перемешивая и упорядочивая, запечатлевать-перечислять все присвоенные им элементарные частички внешнего мира, которые, сшибаясь-срастаясь в глубине души и на экранах сознания, обретают взрывную силу. Имелось в виду не смиренное собирательство, но горделивый внутренний зов – объять необъятное, проверить мироздание на прочность.
Подливал из графинчика.
И выяснялось, что мир подавляет дар, обнаруживалась недостаточность языка, позорно выдыхавшегося в мелкотемьи и коловращениях современности. И беда была не в лексической бедности языка, нет – с расширением угла зрения на словесный ландшафт ощущалась нужда в ином синтаксисе, если угодно – синтаксисе композиции, и, стало быть, новых приёмах сборки словесных массивов текста. – Нет, нет, не то, – отвечал на молчаливый вопрос Соснина, – надоели штампы динамичного монтажа, надо… надо заново комбинировать и сращивать сейчас и здесь донимающие частицы мира в каждом минимальном сегменте текста, да так, чтобы стыков не было видно! И сращивать затем разноликие сегменты. – Нет, – твёрдо повторял, – не последовательно – сперва одно, потом другое, третье – так писали, когда писались истории. Без обновления композиционного синтаксиса будет только распухать эпическая белиберда! – выпил, посмотрел в пустое зеркало за спиной буфетчицы, – бедность, даже беспомощность языка, многословное онемение сравнимы с реакциями уставшего отражать зеркала: смотрит, как большущий расплющенный глаз, вверх и вниз смотрит, по сторонам, однако не видит потолка, настенного фриза, подпёртого плоскими капителями пилястр, не видит нас, не видит даже Танюшиной спины; надоевшая окаянная действительность провалилась за амальгаму.
– Провалилась? Мы говорим, а будто бы онемели? Но чего ради и надолго ли подевались куда-то отражения?
– Вот он, вопрос вопросов! – счастливо дёрнулся и завертел головой Бухтин, – да ещё в твоём духе, вербальное и зримое стянуты в один узел. Ослепшее-онемевшее зеркало, суть накопитель, когда оно наново прозреет-заговорит, ударит преображающим пульсирующим гейзером отражений-смыслов, придётся улавливать выбросы внезапного многообразия, ритмы его пульсаций…
Пока что пар вырвался из кофеварки, сломалась.
– Заряжает любую хитроумную схему сборки взрывчатых частиц тайна. Сочинитель томится, терзается в хаосе накоплений, смотрит по сторонам и, будто бы это зеркало, ни черта не видит, но вдруг – рождается образная вселенная. Художественный дар поглощает мир, возгоняет мировую материю в дивную подъёмную силу… Соснин не всё понимал, Валерка продолжал громоздить возвышенные загадки.
Омлет, однако, доеден, графинчик пуст; кофепитие отменилось.
– Потянувшись пером к бумаге, замкнув тайную токопроводную цепь, автор упивается чувством полёта – порывает с обыденностью, непостижимо вырывается из её пут, чтобы в одиноком высоком холоде обрести пугающую зоркость, увидеть и мироздание извне; самоотречение, самоотдача одариваются запредельной точкой зрения…
Чересчур уж высокопарно, – рассеянно думал Соснин, пока Валерка вспоминал о художнике как наконечнике божественного орудия.
– Как примирять-соединять стили? Сталкивая, переслаивая аскетизм и необузданность? Но вот ведь, смотри, смирились, соединились с модерном ордерные мотивы! Строгая органика дара… гармония… – совершенные пропорции, лёгкие – мимолётное воспоминание об ампире? – пилястры с изящно стилизованными ионическими капительками, карнизиками, бронзовые бра, и солидно-тяжеловатая, облицованная зеленоватым мрамором стойка, за ней – бездна зеркала.

Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков.

История, начавшаяся с шумного, всполошившего горожан ночного обрушения жилой башни, которую спроектировал Илья Соснин, неожиданным для него образом выходит за границы расследования локальной катастрофы, разветвляется, укрупняет масштаб событий, превращаясь при этом в историю сугубо личную.Личную, однако – не замкнутую.После подробного (детство-отрочество-юность) знакомства с Ильей Сосниным – зорким и отрешённым, одержимым потусторонними тайнами искусства и завиральными художественными гипотезами, мечтами об обретении магического кристалла – романная история, формально уместившаяся в несколько дней одного, 1977, года, своевольно распространяется на весь двадцатый век и фантастично перехлёстывает рубеж тысячелетия, отражая блеск и нищету «нулевых», как их окрестили, лет.

Дебютный роман Влада Ридоша посвящен будням и праздникам рабочих современной России. Автор внимательно, с любовью вглядывается в их бытовое и профессиональное поведение, демонстрирует глубокое знание их смеховой и разговорной культуры, с болью задумывается о перспективах рабочего движения в нашей стране. Книга содержит нецензурную брань.

Роман Юлии Краковской поднимает самые актуальные темы сегодняшней общественной дискуссии – темы абьюза и манипуляции. Оказавшись в чужой стране, с новой семьей и на новой работе, героиня книги, кажется, может рассчитывать на поддержку самых близких людей – любимого мужа и лучшей подруги. Но именно эти люди начинают искать у нее слабые места… Содержит нецензурную брань.
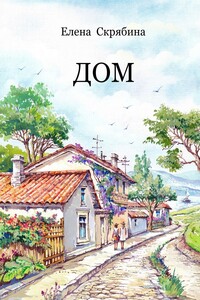
Автор много лет исследовала судьбы и творчество крымских поэтов первой половины ХХ века. Отдельный пласт — это очерки о крымском периоде жизни Марины Цветаевой. Рассказы Е. Скрябиной во многом биографичны, посвящены крымским путешествиям и встречам. Первая книга автора «Дорогами Киммерии» вышла в 2001 году в Феодосии (Издательский дом «Коктебель») и включала в себя ранние рассказы, очерки о крымских писателях и ученых. Иллюстрировали сборник петербургские художники Оксана Хейлик и Сергей Ломако.

Перед вами книга человека, которому есть что сказать. Она написана моряком, потому — о возвращении. Мужчиной, потому — о женщинах. Современником — о людях, среди людей. Человеком, знающим цену каждому часу, прожитому на земле и на море. Значит — вдвойне. Он обладает талантом писать достоверно и зримо, просто и трогательно. Поэтому читатель становится участником событий. Перо автора заряжает энергией, хочется понять и искать тот исток, который питает человеческую душу.

Когда в Южной Дакоте происходит кровавая резня индейских племен, трехлетняя Эмили остается без матери. Путешествующий английский фотограф забирает сиротку с собой, чтобы воспитывать ее в своем особняке в Йоркшире. Девочка растет, ходит в школу, учится читать. Вся деревня полнится слухами и вопросами: откуда на самом деле взялась Эмили и какого она происхождения? Фотограф вынужден идти на уловки и дарит уже выросшей девушке неожиданный подарок — велосипед. Вскоре вылазки в отдаленные уголки приводят Эмили к открытию тайны, которая поделит всю деревню пополам.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.