Приключения сомнамбулы. Том 2 - [4]
Светлая, с каштановыми подпалинками бородка, редкие тёмные усы. Над лоснящимися залысинами прозрачная, как роща осенью, золотисто-пегая шевелюра. Выцветший, потёртый годами Печорин, лишь глаза яркие, голубые, брызжущие безумствами. И в непрестанном беспокойстве белые женские руки, пальцы с длинными ногтями, нелепым перстнем; Костя Кузьминский подарил, уезжая в Америку.
Сдал Валерка.
Обрёл повадки говорливого алкаша, не больно-то вязавшиеся со славой всё ещё восходящей филологической звезды!
Да, он забыл о добавочном источнике неприличного обогащения – в Мюнхене на деньги какого-то голландского фонда издали сборник статей; воровато поозиравшись, Валерка достал невзрачную, в мягкой обложке книжицу. Гордился и смущался, чересчур небрежно издали – перечень опечаток, если б составили, был бы не многим короче основного корпуса текста. Валерка объявил, что вечером представит на суд секции прозы Пушкинского Дома доклад о будущем романа. Лотман заболел, не приехал, зато почтят присутствием Иванов, Гаспаров.
Да, ему тоже звонил Художник, приглашал, жаль, из-за доклада сегодня никак не сможет посмотреть картину. И, убирая с глаз долой, грубо ругнул долгожданную, но жалкую книжицу; да, всё вполне органично для официально непризнанной филологической звезды по прозвищу Нос!
Да-да, потёртый, изрядно потёртый.
Застрял где-то между подпольем, поднадзорной обителью пьяненькой интеллектуальной вольницы, и строгими академическими сводами, достойными хранителя-продолжа-теля отцовской научной славы. Несолидный, однако, получался из него продолжатель! Идея мемориальной квартиры-музея и та умерла вместе с Юлией Павловной – каждый Валеркин развод отщипывал от профессорской квартиры по комнате, хорош бы получился мемориал в коммуналке с отвергнутыми озлоблёнными жёнами.
После второй рюмки, добрея, Валерка признавался, что подлую, тягуче-тягостную эпоху, на которую выпали их лучшие годы, в хронических приступах слабости ему хотелось проспать… коли всё нельзя, зачем суетиться? – Вот, даже зеркала устают отражать, – небрежно махнул в сторону слепо блестевшего за Танюшиной спиной, огромного, как у Мане, в картинном Фоли-Бержер, зеркала. – Однако, – любил без промедления себя опровергнуть! – однако именно в такую, отторгающую всякий идейный порыв эпоху, когда время остановилось, тайные семена падают в тощую почву, поливаются сухими ночными слезами… и незаметно набухают, выбрасывают пусть и хиленькие пока побеги, причудливо скрещиваются, мутируют, а грядущая эпоха по закону исторического контраста – динамичная, сдвиговая и собирательная, ибо всё-всё-всё будет можно! – пожнёт неожиданные плоды. И стоит ли обидчиво укорять застывшее в невнятном накопительстве время? Придёт час и оно, всезнающее и веротерпимое, помирит когда-то враждовавшие формы и стили, научит иронизировать над увядшими надеждами, пафосом. «Неизбежность постмодернизма» – называлась последняя, затерявшаяся затем в самиздате статья, названная столь категорично после долгих споров с подачи Шанского.
Идеи Толькиных лекций сильно зацепили Валерку?
К третьей рюмке подоспели тонкие подсушенные ломтики булки, твёрдые рифлёные лепесточки сливочного масла, зернистая икра в круглых, стеклянных, с толстым дном, ванночках.
Хотя… Шанский подбросил название, а вот остальное…
Ощупывая взором аппетитные формы официантки Риммочки, старательно раскладывавшей на скатерти накрахмаленные салфетки, Валерка, смеясь, жаловался, что сразу же упёрся в тупик, когда рискнул переводить «Аду», – отменивший пространственно-временные границы и опоры роман, творение высокого лингвистического садизма, издевался над переводчиком; словарный запас предательски оскудевал, русские слова цепенели в мерцании иноязычных смыслов, они, неуловимые, игриво взблескивали и исчезали на подвижных стыках разных языковых контекстов, там и окуджавские песенки проблеснули, там всё, всё… и россыпи парадоксов из главы о времени, начинённой образами и переливчатыми образчиками то ли авторской, то ли романного персонажа, Ван Вина, речи… – «пространство – толчея в ушах», ещё что-то неожиданное, Соснин не успевал схватывать… Кивнув в сторону плотного, плечистого, в коричневом костюме, человечка с холёной смоляной бородкой и бегавшими выпуклыми тёмными глазками, который промокал салфеткой сочные губы, Бухтин зашептал. – Враг не дремлет, куратор спецпроектов и наружного наблюдения Отдела Культуры Большого Дома с утра пораньше проверяет боеготовность рассредоточенной по интуристовским этажам тайной рати, после трудов праведных кофейком балуется в уюте.
Валерка назвал фамилию куратора-сибарита, тут же вылетела из головы.
Зато, посмотрев на круглые часы над пустым зеркалом, Соснин вспомнил о ждавшей его беседе со следователем.
Валерка выслушал, присвистнул. – И к тебе подобрались, гады… поднял рюмку. – Пусть они сдохнут.
А ещё справку о красоте писать, – затосковал Соснин.
Старую пластинку заело?
Дожёвывая бутерброд с икрой, Валерка возвращался к давней, возможно, и впрямь навязчивой – потуплял с плутоватым смирением очи – идее направленного, достигаемого гибридизацией стилей романного полифонизма. Столько лет минуло, но не утратил пыл, по-прежнему грезил скрещением хотя бы двух авторских языков, двух поэтик. Язык взрывчатой красоты, внезапно озаряющей мир, язык лирический и игривый, беззащитный и смелый, знающий себе цену, похваляющийся тем, что это чистый язык, без мыслей, точнее, с мыслями, которые, однако, трудно извлечь из слов, предстояло породнить с языком мучительных сомнений и осмыслений, языком нудновато-философическим, по сути неизобразительным в дотошнейших описаниях того, что кололо глаз, интриговало мозг, теребило душу. А лёгкость, жизненная естественность сюжетосложения, ведомого искристо-игровым умом, острым зрением и тонкой эмоцией, сращивались в Валеркиных квазинаучных мечтаниях с сюжетосложением рассудочным, рассудительным, при этом – скрытным, подспудным… если же долгоиграющие хитроумные сюжеты пронзали ненароком поверхность текста, они ослабевали и крошились затем под грузом подробностей… И почему с такой истовостью Валерка внушал давно надоевшую, хотя всё ещё сырую идейку гибридизации именно Соснину? Опылял словами… окуривал идейным наркотиком? Валерка навряд ли в нём искал исполнителя… и можно ли вообще накропать что-то удобоваримое под диктовку затемнённых его идей?

История, начавшаяся с шумного, всполошившего горожан ночного обрушения жилой башни, которую спроектировал Илья Соснин, неожиданным для него образом выходит за границы расследования локальной катастрофы, разветвляется, укрупняет масштаб событий, превращаясь при этом в историю сугубо личную.Личную, однако – не замкнутую.После подробного (детство-отрочество-юность) знакомства с Ильей Сосниным – зорким и отрешённым, одержимым потусторонними тайнами искусства и завиральными художественными гипотезами, мечтами об обретении магического кристалла – романная история, формально уместившаяся в несколько дней одного, 1977, года, своевольно распространяется на весь двадцатый век и фантастично перехлёстывает рубеж тысячелетия, отражая блеск и нищету «нулевых», как их окрестили, лет.

Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков.

Юрий Купер – всемирно известный художник, чьи работы хранятся в крупнейших музеях и собраниях мира, включая Третьяковскую галерею и коллекцию Библиотеки Конгресса США. «Сфумато» – роман большой жизни. Осколки-фрагменты, жившие в памяти, собираются в интереснейшую картину, в которой рядом оказываются вымышленные и автобиографические эпизоды, реальные друзья и фантастические женщины, разные города и страны. Действие в романе часто переходит от настоящего к прошлому и обратно. Роман, насыщенный бесконечными поисками себя, житейскими передрягами и сексуальными похождениями, написан от первого лица с порядочной долей отстраненности и неистребимой любовью к жизни.

Потребительство — враг духовности. Желание человека жить лучше — естественно и нормально. Но во всём нужно знать меру. В потребительстве она отсутствует. В неестественном раздувании чувства потребительства отсутствует духовная основа. Человек утрачивает возможность стать целостной личностью, которая гармонично удовлетворяет свои физиологические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные потребности. Целостный человек заботится не только об удовлетворении своих физиологических потребностей и о том, как «круто» и «престижно», он выглядит в глазах окружающих, но и не забывает о душе и разуме, их потребностях и нуждах.

1649-й год. В Киевский замок на Щекавицкой горе прибывает новый воевода Адам Кисель. При нем — помощник, переводчик Ян Лооз. Он — разбитной малый. Задача Киселя провести переговоры с восставшими казаками Хмельницкого. Тем временем, в Нижнем городе — Подоле происходят странные вещи. У людей исчезают малолетние дети. Жители жалуются властям, т. е. воеводе. Они подозревают, что воруют цыгане, или же детей похищают местные бандиты, которые промышляют в здешних лесах и орудуют на больших дорогах. Детей якобы продают в рабство туркам. За это дело берется Ян Лооз.
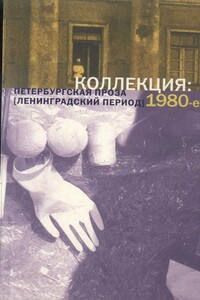
Последняя книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)». Произведения, составляющие сборник, были написаны и напечатаны в сам- и тамиздате еще до перестройки, упреждая поток разоблачительной публицистики конца 1980-х. Их герои воспринимают проблемы бытия не сквозь призму идеологических предписаний, а в достоверности личного эмоционального опыта. Автор концепции издания — Б. И. Иванов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.