Приключение Шекспира - [8]
А вслед за тем, по данному знаку, капитан, вышед из королевской ложи, возвестил поэту, что Елисавета, покровительница знаний, позволяет ему назавтра предстать перед себя.
Как бы счастлив был Шекспир, если б умер в эту минуту! Великая королева, вероятно, сочувствовала ему одна, слеза ее была драгоценнее всех рукоплесканий, важнее удивления целой Англии, дороже имени в потомстве.
На другой день, 14 мая 1595 года, был при дворе приемный день. Посол Франции имел счастие преклонить колена перед королевою в присутствии всего рыцарства Англии. Как бесконечное эхо, неслися отвсюду клики: «Да здравствует Елисавета!» Виндзор был весь радость, весь восторг; одна только королева, предмет всех этих почестей, не сгладила морщин под короною. Сердце ее не билось более под бархатом и драгоценностями.
Она умерла для лести.
— Виллиам Шекспир! — громко провозгласил герольд.
— Виллиам! — невольно повторила королева.
Легкое волнение изменило черты ее лица, она почти покраснела от стыда, произнеся с участием имя вассала.
Герольд отворил одну половинку двери в тронную залу, Шекспир готов был войти.
— Обе половинки дверей, сир Ельдворт, обе половинки! — закричала Елисавета. Потом прибавила гораздо покойнее: — Это непостижимо! Думают, что я, покровительница искусств в Англии, потерплю, чтобы благородство происхождения первенствовало над гением, чтоб обе половинки дверей дворца моего отворялись лорду и одна — человеку вдохновенному!.. Ежели б благородство было также не наследственно, как и гений, кто бы из вас, господа, наравне с Шекспиром мог назваться благородным?
Несколько минут спустя придворные удалились, Шекспир остался наедине с королевою. Тогда она сказала ему грозно:
— Не гордитесь, сударь тем, что я сейчас сказала; мне только хотелось унизить этих господ, надменных знаменитостию своих предков, как будто бы они произошли не из одного начала, как будто бы все существующее создано не одним Творцем.
— Впрочем, несмотря на глупость моих герцогов и пэров, я всегда отдам преимущество руке, владеющей мечом, пред той, которая владеет пером, как бы ни было велико превосходство последней перед первою.
Шекспир гордо поднял голову, уста шевелились, он готов был доказывать несправедливость королевы.
Очаровательно улыбаясь, она прибавила:
— Есть случаи, однако, когда писатель или поэт может быть выше герцога или полководца; полководец двигает только известным количеством людей, одною частию войск… но поэт… он колеблет царства…. целую вселенную, и его голос, могущественный, подобно гласу Божества, гремит из столетия в столетие…
Внезапный трепет пробежал по членам Шекспира, воспоминание палило его сердце, сушило мозг в его костях.
Голос королевы при последних словах сделался нежен и очарователен по обыкновению; Виллиаму сдавалось, что уже не в первый раз слышит он этот голос.
— Юлия, Юлия! — шептал он невольно.
Елисавета затрепетала.
— Виллиам, — сказала она, — вы сейчас произнесли имя, отозвавшееся в целой Англии, и в моем сердце! — прибавила она тише. И ее взоры, встречаясь со взорами Шекспира, ловили всякое выражение его лица, как будто желая разгадать и причину его трепета, и тайну вздоха, и глубину мысли.
Это было бесполезно; Виллиам на это мгновение забыл о своей любви, теперь он был только человек и поэт.
После нескольких минут молчания Елисавета продолжала, улыбаясь:
— Согласитесь, милый Виллиам, что великие писатели иногда очень странны: они переселяются душою в создания своего воображения, как будто бы на земле не могли они найти чего-нибудь достойного их!.. Вы также хотели отличиться какою-нибудь странностию, влюбившись в вашу Юлию и ревнуя к ней бедного Ромео!
— Это от того, — подхватил Шекспир, — что искусства глубоко браздят их сердца; от того, что мысль, зарождающаяся в душе поэта, столь же пламенна в проявлении своем, как пламенна кровь его, столь же звучна, как громы Всемогущего! Это от того, что поэт прежде, нежели воспламенит любовью сердца героев своих, в собственной душе должен перечувствовать все их страдания!.. Это от того, что прежде, нежели я заставил Монтегю полюбишь мою Юлию, я сам, королева Англии, любил ее страстно…
— Юлию театра? — перервала его Елисавета с горькою усмешкою.
— О нет! Тысячу раз нет! — вскричал Виллиам. — Мою Юлию, мое создание, моего ангела; эту Юлию, которая еще пламеннее, нежели Юлия театра, еще невиннее, нежели Юлия истории, но не столь совершенная, однако, как Юлия королевского сада в Виндзоре.
— Замолчите, сударь, замолчите; я, королева Англии, приказываю вам это…
— Простите меня, королева, это было сладостное воспоминание того, что случилось за два года перед сим, но столь непонятное, столь таинственное, что я вечно готов был сомневаться в действительности его, ежели б голос ваш…
— Я приказываю вам молчать! — повторила Елисавета.
— Нет! Я ошибся! — сказал Шекспир, проводя рукою по лицу, как бы желая отогнать внезапную мысль. — Я ошибся, это не тот голос, который я слышал в Виндзорском саду… и может ли это быть, чтоб женщина, так высоко поставленная, могла унизиться до свидания с Шекспиром, беседовать с ним об искусстве, о славе, о любви, о предметах, о которых любящий ангел говорит только один раз в жизни, но воспоминание о которых остается навеки… Нет, королева, я ошибся!
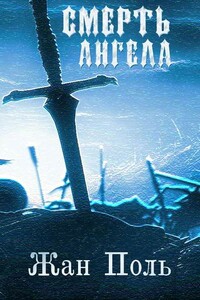
«Ангел последней минуты, которого мы так ошибочно называем смертью, есть самый нужный и самый лучший из ангелов. При виде полей брани, обагренных кровью и слезами… ангел последней минуты чувствует себя глубоко тронутым, и его глаза орошаются слезами: «Ах, — говорит он, — я хотел бы умереть хоть раз смертью человеческою…».
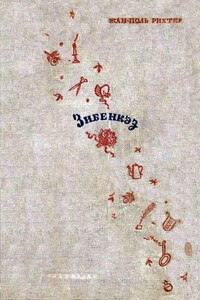
В романе немецкого писателя Жан-Поля Рихтера (1763–1825), написанного с причудливым юмором и неистощимым воображением, проникнутым сочувствием к обездоленным, создана выразительная картина жизни феодальной Германии конца XVIII века.

Жан-Поль Рихтер (1763–1825), современник И. В. Гёте и признанный классик немецкой литературы, заново открытый в XX веке, рассматривал «Грубиянские годы» «как свое лучшее сочинение, в котором, собственно, и живет: там, мол, для него всё сокровенно и комфортно, как дружественная комната, уютная софа и хорошо знакомое радостное сообщество». Жан-Поль говорил, что персонажи романа, братья-близнецы Вальт и Вульт, – «не что иное, как две противостоящие друг другу, но все же родственные персоны, из соединения коих и состоит он». Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя). По мнению Женевьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму.

Издание является первым полным переводом на русский язык известного эстетического произведения немецкого писателя конца XVIII — начала XIX в. Жан-Поля. Наиболее ценные и яркие страницы книги посвящены проблемам комического, юмора, иронии. Изложение Жан-Поля, далекое от абстрактности теоретических трактатов, использует блестящую и крайне своеобразную литературную технику, присущую всем художественным произведениям писателя.Для специалистов-эстетиков, литературоведов, а также читателей, интересующихся историей культуры.
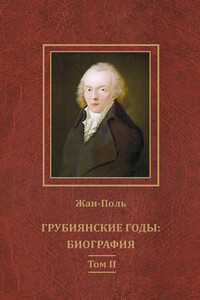
Жан-Поль Рихтер (1763–1825), современник И. В. Гёте и признанный классик немецкой литературы, заново открытый в XX веке, рассматривал «Грубиянские годы» «как свое лучшее сочинение, в котором, собственно, и живет: там, мол, для него всё сокровенно и комфортно, как дружественная комната, уютная софа и хорошо знакомое радостное сообщество». Жан-Поль говорил, что персонажи романа, братья-близнецы Вальт и Вульт, – «не что иное, как две противостоящие друг другу, но все же родственные персоны, из соединения коих и состоит он». Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя). По мнению Женевьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
