При свете Жуковского - [241]
Строго говоря, не остается вовсе ничего. Потому что, повторив поразившую Нержина пословицу (а разве могли бы мы жить без нее, без разящей ясности, которая сильнее и глубже любых честных и продуманных построений!), Спиридон дальше развивает апокалипсический сюжет: кличет на семью свою и «еще мильён людей», но – с «Отцом Усатым и всем их заведением» самолет с хорошо знакомой читателям романа атомной бомбой. Что делать Нержину с измученным мужиком и его отчаянным «А ну! кидай! рушь!!»? Втолковывать ему, что после бомбы не будет и страдающего «по лагерях, по колхозах, по лесхозах» народу? Или, поверив пословице, принять за ней и атомное проклятье?
Пушкинский мужик Архип в «Дубровском» пожалел кошку, но весело глядел на горящих в доме чиновников. Про русский бунт за последние полтора века говорено-переговорено. А ведь истовый крик Спиридона – тот самый бунт, а что оружием становится не дреколье, а чужая бомба, так, во-первых, пойди-ка с рогатиной на сталинскую махину, а во-вторых, бунтует-то Спиридон «теоретически». Но от того, что бунт вершится на словах, не менее страшно. До какого же отчаянья нужно довести ко всему пригодного, мастеровитого, душевно крепкого человека, если ему не жаль уже ни себя, ни близких, ни земли. Или вправду нет никакой России, а только сплошные лагеря, колхозы, лесхозы – тюрьма, гибель которой спасет человечество?
Разговор со Спиридоном – это не откровение, а еще одно искушение на пути Нержина. Искушение не исчезает оттого, что в роли искушающего, отчаявшегося (вспомним, что крайняя степень отчаяния – самоубийство – есть тягчайший грех) выступает один из самых дорогих автору героев. Спиридон не судится тем судом, что Рубин и Сологдин, но от этого отчаянье его не становится истиной и не может быть до конца разделено ни Нержиным, ни автором.
Антитезой страшному бунту Спиридона предстает в романе замысел Герасимовича, идея заговора «техно-элиты», своего рода потенциальных декабристов[588]. Герасимович, в отличие от Рубина и Сологдина, не играет в игры с враждебной системой и мало озабочен собственным «я». Он подчинен другой, внезапно озарившей его идее: «техно-элита» – единственный наследник ушедшей Руси (мысль эта пронзает героя после рассказа о легендарной картине Корина «Русь уходящая»), и, следовательно, ей принадлежит будущее. Надежда на военный переворот (и снова звучит мотив атомной бомбы) неотрывна от веры в прогресс, которой, видимо, и держится щуплый Герасимович.
Солженицын готовит декабристский поворот сюжета исподволь: жена Герасимовича перед свиданием вспоминает декабристок и горько иронизирует над их участью; в воспоминаниях Яконова Агния бранит Наташу Ростову за то, что она Пьера не пустит в декабристы; пушкинско-декабристские мотивы окрашивают эпизод празднованья дня рождения Нержина; наконец, диалог Нержина со Спиридоном не может не вызвать в памяти беседы Пьера Безухова с Платоном Каратаевым. Но, тщательно прорабатывая будущий поворот идеологического сюжета, писатель предусмотрительно обходит фигуру самого идеолога – Герасимовича. Мы знаем о нем лишь то, что он не поддался на уговоры обессилевшей и любимой жены и отказался служить «ловцом человеков». Нет ни намека на его дискредитацию (жесткость отношения к жене не может быть поставлена в счет – слишком страшна предложенная цена свободы). Солженицыну легко было бы приписать герою честолюбие, жажду власти, цинизм – он этого не сделал. «Декабристский вариант» опровергается не потому, что Герасимович плох, и не потому, что Нержин видит его неисполнимость. Неприемлемость его заложена в самих импульсах, двинувших Герасимовича к его «идее». Для Солженицына и Русь не ушла (не могла уйти вовсе, нынешний «разброд» – предвестье будущего возрождения), и прогресс далеко не абсолютен («Да если б я верил, что у человеческой истории существует перед и зад! Но у этого спрута нет ни зада, ни переда», – восклицает Нержин). Бунт и заговор, чужая атомная бомба, падающая с американского самолета, или своя, но направленная против Сталина и его банды, равно несовместны с предназначением России.
Герасимович недоволен Нержиным («Отдать всю планету на разврат? Не жалко?»), и Нержину, как кажется, нечем крыть («Планету – жалко. Лучше умереть, чем дожить до этого»), он лишь ищет выход, лишь нащупывает будущую дорогу и словно ощупью набредает на удивляющий Герасимовича вывод: слово разрушит бетон.
Это, действительно, противоречит и сопромату, и диамату, но – прав Нержин – не противоречит Евангелию. Нержин чувствует, что он прикоснулся к тайне, и вместе с ним к тайне прикасаемся мы.
Слово – душа народа, его память, его история. И человек, ощутивший историю народа – своей, как ощутил это Володин, вникая в родословную, беседуя с дядюшкой и вглядываясь в деревню Рождество, становится похожим на поэта и совершает поступок, противоположный всему тому, что воспитывала в нем среда. Дочь прокурора Клара, почувствовав фальшь бесчисленных слов, верит и зятю, который скоро станет государственным преступником, и Руське Доронину – уже зэку. И тот же Руська, вроде отравленный общественной ложью, всей плотью своей, молодостью, рисковостью, авантюрностью, ломает ни с того ни с сего стройный уклад Шишкиных-Мышкиных. Не случайно трех молодых героев многое связывает, не случайно, что даже с Руськой косвенно соотносится тема Есенина (будучи стукачом-двойником, Руська «заложил» есенинский томик Нержина куму). Этой молодости не должно быть в сталинской стране («К порокам среди молодёжи надо быть а-собенно нетерпимым!» – учит Сталин Абакумова), а она – есть.
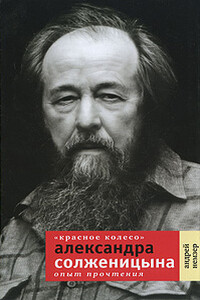
В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов.
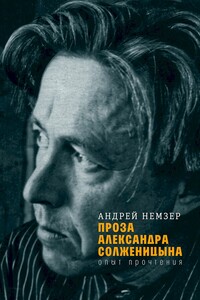
При глубинном смысловом единстве проза Александра Солженицына (1918–2008) отличается удивительным поэтическим разнообразием. Это почувствовали в начале 1960-х годов читатели первых опубликованных рассказов нежданно явившегося великого, по-настоящему нового писателя: за «Одним днем Ивана Денисовича» последовали решительно несхожие с ним «Случай на станции Кочетовка» и «Матрёнин двор». Всякий раз новые художественные решения были явлены романом «В круге первом» и повестью «Раковый корпус», «крохотками» и «опытом художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ».

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

Новая книга Андрея Немзера – пятая из серии «Дневник читателя», четыре предыдущих тома которой были выпущены издательством «Время» в 2004–2007 годах. Субъективную литературную хронику 2007 года составили рецензии на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемические заметки, статьи о классиках-юбилярах, отчеты о премиальных сюжетах и книжных ярмарках. В завершающем разделе «Круглый год» собраны историко-литературные работы, посвященные поэзии А. К. Толстого и его роману «Князь Серебряный», поэтическому наследию С.

Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С.
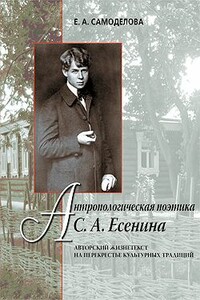
До сих пор творчество С. А. Есенина анализировалось по стандартной схеме: творческая лаборатория писателя, особенности авторской поэтики, поиск прототипов персонажей, первоисточники сюжетов, оригинальная текстология. В данной монографии впервые представлен совершенно новый подход: исследуется сама фигура поэта в ее жизненных и творческих проявлениях. Образ поэта рассматривается как сюжетообразующий фактор, как основоположник и «законодатель» системы персонажей. Выясняется, что Есенин оказался «культовой фигурой» и стал подвержен процессу фольклоризации, а многие его произведения послужили исходным материалом для фольклорных переделок и стилизаций.Впервые предлагается точка зрения: Есенин и его сочинения в свете антропологической теории применительно к литературоведению.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
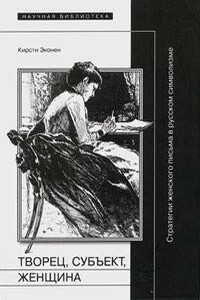
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)

«Хуберт Зайпель имеет лучший доступ к Путину, чем любой другой западный журналист» («Spiegel»). В этом одно из принципиально важных достоинств книги – она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один «авторский» портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до немецкого читателя подлинные взгляды Владимира Путина и мотивы его решений.
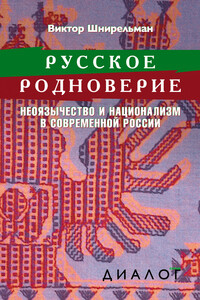
Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.
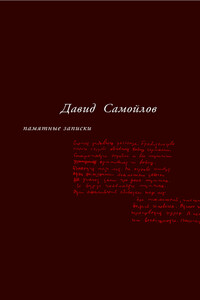
В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)