Презрение - [31]
Мы сидели, ни о чем не разговаривая, время от времени молчание наше нарушалось редкими, ничего не значащими фразами: "Хочешь вина? Тебе дать хлеба? Положить еще мяса?" Мне хотелось бы передать здесь характер этого молчания, понятный только нам одним, ибо именно в тот вечер оно впервые установилось между нами и отныне больше нас не покидало. Это молчание, тягостное, невыносимое, таившее в себе глубокий разлад между мной и Эмилией, было соткано из всего того невысказанного, что я жаждал ей сказать, подавляя в себе это желание, не находя ни сил, ни слов. Назвать наше молчание враждебным было бы не совсем точно. В самом деле, мы я, во всяком случае, не испытывали друг к другу никакой вражды, а ощущали лишь полное бессилие объясниться. Мне хотелось говорить с ней, мне многое нужно было сказать ей, но в то же время я понимал, что все мои слова теперь ни к чему, что мне вряд ли удастся найти нужный тон. Поэтому я хранил молчание. Однако это не было непринужденным спокойствием человека, молчащего просто потому, что у него нет потребности говорить: напротив, меня обуревало желание высказаться, мне очень многое надо было сказать ей, и мысль о невозможности объяснения между нами не давала мне покоя, невысказанные слова трепетали у меня в сердце, в горле, словно за железной тюремной решеткой. Но и этого еще было мало: я чувствовал, что тягостное молчание для меня все же наилучший выход. Нарушив его, пусть даже тактично и мягко, я рисковал услышать в ответ слова еще более для меня неприятные, еще более невыносимые если только это вообще было возможно, чем само наше молчание.
Однако я еще не привык безмолвствовать. Мы съели первое, затем второе, по-прежнему не произнося ни слова. И только когда подали фрукты, я не выдержал и спросил:
— Почему ты все время молчишь?
— Потому что мне нечего сказать, не задумываясь ответила она.
Она не казалась ни опечаленной, ни озлобленной, и эти ее слова тоже звучали искренне.
— Совсем недавно ты произнесла фразу, продолжал я нравоучительным тоном, которая требует объяснений.
— Позабудь о ней… будто ты ее никогда и не слыхал, ответила она все так же искренне.
— Разве могу я забыть о ней? спросил я с надеждой. Я позабыл бы, если бы твердо знал, что это неправда… Если бы это были только слова, вырвавшиеся в минуту гнева…
На этот раз она ничего не ответила. И у меня снова мелькнула надежда. Может быть, в самом деле так оно и было: она крикнула, что презирает меня, в ответ на мою грубость, когда я душил ее, причинил ей боль.
— Ну признайся, продолжал я осторожно настаивать, ведь то, что ты мне сегодня сказала, неправда… У тебя вырвались эти ужасные слова нечаянно, в ту минуту ты просто вообразила, что ненавидишь меня, тебе хотелось меня оскорбить…
Она взглянула на меня и вновь промолчала. Мне показалось хотя, может быть, я и ошибся, что ее большие темные глаза на мгновение наполнились слезами. Набравшись смелости, я взял ее руку, лежавшую на скатерти, и сказал:
— Эмилия… значит, все это неправда?
На этот раз она с силой, которой я в ней и не подозревал, вырвала руку и даже, как мне показалось, отшатнулась от меня.
— Нет, это правда.
Меня поразил ее глубоко искренний, хотя и печальный тон. Она, казалось, понимала, что стоило ей в ту минуту прибегнуть ко лжи и все, хотя бы временно, хотя бы внешне, пойдет по-старому; я ясно видел, что на какое-то мгновение она испытала искушение солгать мне. Но после короткого размышления отказалась от этой мысли. Сердце мое сжалось еще болезненнее, еще мучительнее, и, опустив голову, я пробормотал сквозь зубы:
— Ты понимаешь, есть вещи, которые нельзя говорить просто так, без всякого основания… никому… тем более собственному мужу?
Она ничего не ответила, только взглянула на меня почти с испугом: наверное, мое лицо было искажено злобой. Наконец она сказала:
— Ты сам спросил меня об этом, и я тебе ответила.
— Но ты должна объяснить…
— Что именно?
— Ты должна объяснить, почему… почему ты меня презираешь.
— А вот этого я тебе никогда не скажу… Даже когда буду умирать.
Меня поразил ее непривычно решительный тон. Но удивление почти сразу же сменилось яростью, я уже не в силах был рассуждать спокойно.
— Скажи, я снова взял ее за руку, но на этот раз отнюдь не ласково. Скажи… за что ты меня презираешь?
— Я ведь говорила уже, что никогда этого тебе не скажу.
— Скажи, не то я сделаю тебе больно.
Вне себя я с силой сжал ее пальцы. Некоторое время она удивленно смотрела на меня, потом стиснула зубы от боли, и на ее лице отразилось то презрение, о котором до сих пор она только говорила.
— Перестань, резко сказала она, ты опять хочешь причинить мне боль.
Меня ударило это ее «опять», в нем, казалось, таился намек на какие-то мучения, которым я подвергал ее раньше, я почувствовал, что мне не хватает воздуха.
— Перестань… Как тебе не стыдно!.. На нас смотрят официанты.
— Скажи, за что ты меня презираешь?
— Брось дурить, пусти меня.
— Скажи, за что ты меня презираешь?
— Да пусти же!
Она резким движением вырвала руку, смахнув на пол бокал. Раздался звон разбитого стекла, она встала и направилась к выходу, громко сказав мне:
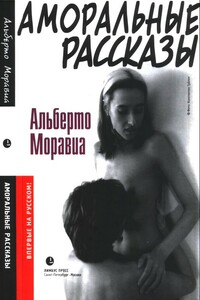
Прожив долгую и бурную жизнь, классик итальянской литературы на склоне дней выпустил сборник головокружительных, ослепительных и несомненно возмутительных рассказов, в которых — с максимальным расширением диапазона — исследуется природа человеческого вожделения. «Аморальные рассказы» можно сравнить с бунинскими «Темными аллеями», вот только написаны они соотечественником автора «Декамерона» — и это ощущается в каждом слове.Эксклюзивное издание. На русском языке печатается впервые.(18+)
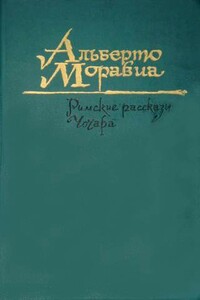
Один из самых известных ранних романов итальянского писателя Альберто Моравиа «Чочара» (1957) раскрывает судьбы обычных людей в годы второй мировой войны. Роман явился следствием осмысления писателем трагического периода фашистского режима в истории Италии. В основу создания произведения легли и личные впечатления писателя от увиденного и пережитого после высадки союзников в Италии в сентябре 1943 года, когда писатель вместе с женой был вынужден скрываться в городке Фонди, в Чочарии. Идея романа А. Моравиа — осуждение войны как преступления против человечества.Как и многие произведения автора, роман был экранизирован и принёс мировую славу Софии Лорен, сыгравшую главную роль в фильме.
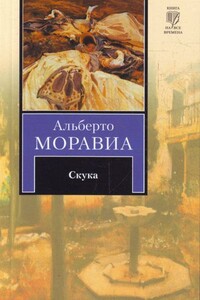
Одно из самых известных произведений европейского экзистенциализма, которое литературоведы справедливо сравнивают с «Посторонним» Альбера Камю. Скука разъедает лирического героя прославленного романа Моравиа изнутри, лишает его воли к действию и к жизни, способности всерьез любить или ненавидеть, — но она же одновременно отстраняет его от хаоса окружающего мира, помогая избежать многих ошибок и иллюзий. Автор не навязывает нам отношения к персонажу, предлагая самим сделать выводы из прочитанного. Однако морального права на «несходство» с другими писатель за своим героем не замечает.
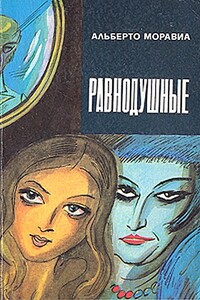
«Равнодушные» — первый роман крупнейшего итальянского прозаика Альберто Моравиа. В этой книге ярко проявились особенности Моравиа-романиста: тонкий психологизм, безжалостная критика буржуазного общества. Герои книги — представители римского «высшего общества» эпохи становления фашизма, тяжело переживающие свое одиночество и пустоту существования.Италия, двадцатые годы XX в.Три дня из жизни пятерых людей: немолодой дамы, Мариаграции, хозяйки приходящей в упадок виллы, ее детей, Микеле и Карлы, Лео, давнего любовника Мариаграции, Лизы, ее приятельницы.

«Я и Он» — один из самых скандальных и злых романов Моравиа, который сравнивали с фильмами Федерико Феллини. Появление романа в Италии вызвало шок в общественных и литературных кругах откровенным изображением интимных переживаний героя, навеянных фрейдистскими комплексами. Однако скандальная слава романа быстро сменилась признанием неоспоримых художественных достоинств этого произведения, еще раз высветившего глубокий и в то же время ироничный подход писателя к выявлению загадочных сторон внутреннего мира человека.Фантасмагорическая, полная соленого юмора история мужчины, фаллос которого внезапно обрел разум и зажил собственной, независимой от желаний хозяина, жизнью.
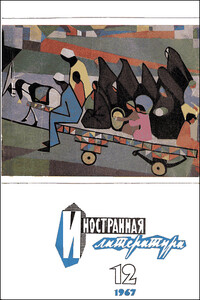
Опубликовано в журнале "Иностранная литература" № 12, 1967Из рубрики "Авторы этого номера"...Рассказы, публикуемые в номере, вошли в сборник «Вещь это вещь» («Una cosa е una cosa», 1967).

«В Верхней Швабии еще до сего дня стоят стены замка Гогенцоллернов, который некогда был самым величественным в стране. Он поднимается на круглой крутой горе, и с его отвесной высоты широко и далеко видна страна. Но так же далеко и даже еще много дальше, чем можно видеть отовсюду в стране этот замок, сделался страшен смелый род Цоллернов, и имена их знали и чтили во всех немецких землях. Много веков тому назад, когда, я думаю, порох еще не был изобретен, на этой твердыне жил один Цоллерн, который по своей натуре был очень странным человеком…».

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.