Преподаватель симметрии - [8]
Не кажется ли вам сюжет «Илиады» несколько странным? натянутым, что ли? Я понимаю, он уже не обсуждается. «Одиссея» как сюжет следующий — более для нас узнаваема. Тут уж ничего не остается, как плыть и плыть. Волны… А вот Елена… Последовавшие в веках поэтические реминисценции по ее поводу куда более реальны, чем она сама. Нет, не ее неописуемая, а вернее, так и неописанная, ненаписанная красота волновала и волнует поэтов — а сам факт ее существования, что она была. Факт этот ничем не доказан, кроме того, что из-за нее разыгралась Троянская война. Надо же войну чем-то объяснить? Война была, но была ли Елена ее причиной? и была ли сама Елена? Поэты любят не Елену, а причину в ней. Потому-то и можно до бесконечности вызывать ее образ, что ее самой и не было. Естественно, что я тут же прозвал свою фотонезнакомку Еленой, но поначалу лишь из-за этих невразумительных облаков. Не думал я тогда так, как вам сейчас говорю. Ни про «Илиаду», ни про «Одиссею». Не ведал, что война уже проиграна, что я уже плыву… Не странно ли, что мы с вами видим облака, которых не видел Гомер? Вы воображали себя слепым? Каждый воображал… Что видит слепец перед собою? Ночь? Нет, бесконечные волны.
…Лицо Ваноски стало слепым, меня перед ним не было, мне даже показалось, что я вижу в его взгляде волны, но это был страх: он снова вперился в эту нелепую белую пуговицу на стене. Боялся ли он ее или того, что я спрошу его, для чего она предназначена? Во всяком случае, именно про эту кнопку я собирался его спросить, и он меня именно что — перебил:
— Вы спрашиваете, что было дальше? — Я не спрашивал, а ему совсем не хотелось продолжать. — Дальше все очень просто и слишком точно. Как по нотам. Нет, я не сразу в нее влюбился. Я не солдат, чтобы влюбиться в фотокарточку. К тому же я уже был влюблен. И я усмехнулся над собою тою усмешкой юности, которой она освобождается от смущения, что кто-нибудь мог заметить ее неловкость. Никто не заметил. И стряхнув наваждение, как не относящееся к моей прекрасной упругой жизни, а потому и небывшее, я засунул «облака» в конспект и поспешил туда, куда и направлялся с самого начала, только слишком заблаговременно вышел на свидание, отчего и оказался на этой проклятой скамейке, — поспешил к моей Дике. Она была Эвридика, это я ее так звал. Нет, она не была еще моей… Вам кажется, что слишком много Греции? Так у нее и впрямь отец был грек, хотя она его и не помнила, как и родину, всю жизнь прожив с матерью в Париже, как и я не помнил ни отца, ни своей Польши. Теперь мы оба были сомнительные англичане. Это нас роднило. Мы учились на одном факультете. Она раньше, я позже. Она была меня младше, но сильно обогнала в науке, пока я пробовал свои силы в поэзии, и теперь она меня по истории поэзии же натаскивала, чтобы я переполз с курса на курс. Ей нравилось меня учить, а мне нравилось у нее плохо учиться, наука наша развивалась медленно — мы уже целовались. О, у нас тогда было очень много времени!
И теперь, через полвека, не нуждаясь ни в чем, кроме покоя, я полагаю, что счастье все-таки есть и бывает. Потому что — оно-таки было! Было это бесконечное время за конспектами в комнатке Эвридики. Оно не начиналось, и оно не кончалось — оно было, оно жило в этой квартире, как пригревшаяся кошка, и никуда не собиралось уходить. Я и впрямь недолюбливал: «Озерную школу», помню, над нею мы бились особенно долго — ни у кого не было слаще губ!.. Если бы мы тогда знали, как нам это нравилось! Она снимала самую маленькую квартиру, какую я когда-либо видел. Верите ли, она была вдвое меньше этой моей конуры! Квартирка была рядом со школой, в которой я учился, и мне уже казалось, что мы выросли вместе. И мы вспоминали с ней школьные игры: крестики-нолики, морской и воздушный бой… — и заигрывались в них за полночь. «Спать! Спать!» — кричал ее любимый попугай Жако. «Как он-то здесь оказался? — удивлялся я. — Как он здесь поместился?..» Комнатка была вся завалена книгами непостижимой для меня учености, и сувенирами, немыслимыми по наивности. И они все время сыпались! Я бросался их подбирать, она меня отстраняла, потому что я, мол, все перепутаю; мы ползали на коленях, собирая, а ползать-то было негде! Между столом и диваном совершенно не было места, чтобы вдвоем ползать, — мы упирались лбами. Так нам и пришлось впервые поцеловаться…
Ваноски совсем растрогался — неловко мне стало ощущать свою молодость, свежесть вчерашних поцелуев на своих губах, глядя на его детский восторг…
— Книжность и нежность… — лепетал он. — О, это был самый очаровательный синий чулок, который когда-либо существовал. Впрочем, синее она не любила, она любила все красное — вольные кофты, длинные юбки… бусы, браслеты, дома она надевала их даже на ноги… Я ползал и собирал с полу книги, от одних названий которых у меня сводило скулы, и я любил их, в закрытом, правда, виде: я собирал эти обрушения — вперемешку с кастаньетами, лаптями, африканскими масками, коробочками из-под чая, поздравительными ни с чем открытками, которые она любила получать со всего света, бесконечными ее фотографиями, которыми она очень дорожила, потому что полагала себя фотогеничной, видимо, считая, что на них она лучше, чем на самом деле… но как она заблуждалась) я подбирал и снова ронял все это, будто ненароком выдергивая из стопки томик, чтобы вызвать очередной обвал… в последний момент она все-таки вырывалась, раскрасневшаяся, предельно хорошенькая в торжестве своего смущения, и начинала готовить нам кофе. Готовила она его на спиртовке, в какой-то дикой кастрюльке, даже не греческой, а почему-то турецкой, я подкрадывался сзади — кофе у нее убегал, конечно, и она страшно на меня за это сердилась, ибо особенно гордилась своим секретом варить кофе, который варила скверно.
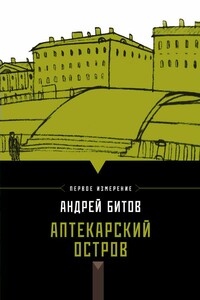
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
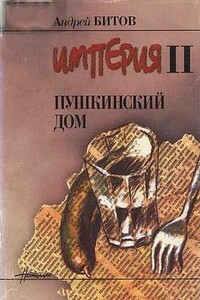
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

«Пушкинский том» писался на протяжении всего творческого пути Андрея Битова и состоит из трех частей.Первая – «Вычитание зайца. 1825» – представляет собой одну и ту же историю (анекдот) из жизни Александра Сергеевича, изложенную в семи доступных автору жанрах. Вторая – «Мания последования» – воображаемые диалоги поэта с его современниками. Третья – «Моление о чаше» – триптих о последнем годе жизни поэта.Приложением служит «Лексикон», состоящий из эссе-вариаций по всей канве пушкинского пути.

ББК 84.Р7 П 58 Художник Эвелина Соловьева Попов В. Две поездки в Москву: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1985. — 480 с. Повести и рассказы ленинградского прозаика Валерия Попова затрагивают важные социально-нравственные проблемы. Героям В. Попова свойственна острая наблюдательность, жизнеутверждающий юмор, активное, творческое восприятие окружающего мира. © Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.

А что, если начать с принятия всех возможностей, которые предлагаются? Ведь то место, где ты сейчас, оказалось единственным из всех для получения опыта, чтобы успеть его испытать, как некий знак. А что, если этим знаком окажется эта книга, мой дорогой друг? Возможно, ей суждено стать открытием, позволяющим вспомнить себя таким, каким хотел стать на самом деле. Но помни, мой читатель, она не руководит твоими поступками и убеждённостью, книга просто предлагает свой дар — свободу познания и выбора…

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.