Преподаватель симметрии - [3]
— …Думаю, такие же поля подсолнухов могли быть и в Древней Греции. Мы это наблюдали вместе с Дикой, в Италии, нет, уже не древней. — Для убедительности он пощупал себя за икру, чтобы показать, где это. — В Умбрии… Там было огромное подсолнуховое поле, мимо которого мы поднимались в горы встречать восходы и закаты. Все знают, что подсолнухи всегда обращены к солнцу. Ловят каждый его лучик. Они даже его себе на мордочку срисовали, как дети. Мы шли мимо и улыбались им, а они нам. На закате, впрочем, они выглядели более собрано и озабоченно, как строй солдат, ждущий команды. Казалось бы, они должны были уловить его последний луч… и вдруг они всем строем отворачиваются от солнца, демонстрируя нам свои ровные стриженые затылки! Непонятно. Не обижаются же они на солнце?
Я только так сумел это себе объяснить: они подготовились встретить первый луч, а не провожать последний! Энергию закатного солнца они используют, чтобы развернуться к солнцу восходящему! Должно быть, в восходящем больше полезного им света. Дика не восприняла мою теорию, хотя что-то соображала в биологии, в отличие от меня. Но ее больше животные интересовали, а меня всегда больше растения привлекали. Я ей — про подсолнухи, а она мне — про коз. Почему, мол, они всегда ходят по склону в одну сторону? также неудобно, всегда в одну? Никогда не возвращаются… Я ей говорю, что это порода такая специальная, горная: правые ноги короче левых. А как же назад?? — беспокоилась за них Дика. Они же опрокинутся! Вот и приходится им всю жизнь ходить кругом, находил я подходящее объяснение. И она верила. Она была очень простодушна.
Лицо старика вдруг стало суровым, и он продолжал уже так:
— Понимаете, жизнь есть текст. Не дочитанный живущим. Но и текст есть жизнь! В каждой строчке должна таиться тайна будущей строки. Как в жизни — необъявленность следующего мгновения. Мы — не подсолнухи. Мы — козы. В Америке она удивлялась, откуда американцы берут столько индюшачьих ножек в День благодарения. Я ее легко убедил, что американцы вывели для этой цели специальную породу о четырех ногах, понимаете?.. — Старик шумно высморкался и промокнул слезящиеся глаза.
Я имею основания подозревать, что рассудок его уже не был вполне здрав. Мог ли я тогда опубликовать весь этот бред? Мог, все равно это бы стало сенсацией. Я был молод, мечтал о славе. Хорошо, один умный чиновник отсоветовал мне: мол, потеряю работу. И правда, кто я был? Моя сенсация неизбежно разбилась бы о скалу с размахом возведенного мифа. Иногда мне кажется, что и сам бедный лифтер именно о нее и разбился. Будто лифт его оборвался. Его вполне могли и придушить…
Может, все-таки получше — в храме, торгуя свечами, ни о чем не помышляя?.. Легкая, светлая смерть…
— Так что в этом еще нет ничего необычного, если в Гарден-парке к вам подсаживается незнакомый человек, толстый, лысый, потный, собственно, не подсаживается, а плюхается, будто — уф! наконец и успел! — успокаивается, подсыхает под апрельским солнышком и, отпыхтевшись, говорит: «Ну, что ж, Урбино, много я не могу, но вашу фотографию могу вам показать…» Но если с вами случится такое, как случилось это со мной, не удивляйтесь и не раздумывайте, а сразу пошлите этого господина подальше. Кстати, послать подальше — это всегда лучшая философия, мудрость достоинства… Только понял я это значительно позднее. Только, и поняв, не стал я обладателем этой доблести по сей день…
Так протяжно вздохнул старый Урбино Ваноски, подняв на меня свои прекрасные глаза, — ни у кого не встречал я такой прямоты и безответности во взоре, слитых воедино. Впрочем, он тут же прекрасный свой взор отвел в смущении, как бы я не подумал, что философия эта и ко мне имеет отношение, хотя как раз ко мне-то она и имела… Как корреспондент «Серсдэй ивнинг» и «Иестердэй ньюс» я брал у него интервью. Мы сидели в крохотной его каморке, но такой чистой и пустой, что как бы даже чересчур просторной. Всей мебели был один фанерный дырявый шкаф.
Это была бы настоящая тюремная камера, если бы не какая-то покорность обстановки: комната была узницей его взгляда, а не он — ее узником. Комната обрамляла лицо хозяина, а лицо было рамкой его глаз. Эта вписанность друг в друга была как бы обратной: лица во взгляд, комнаты в лицо. Конура его находилась под самой кровлей, и в скошенное оконце уже не были видны ни двор, ни крыши, а только клочок неба с вплывшим в раму облачком. Я сидел на единственном венском стуле, очень непрочно; Ваноски — на своей узкой откидной койке. Его очень бритое длинное лицо было таким же чистым, как его комната, и даже младокожим, что почему-то подчеркивало его старость, придавало ей глубину. Ах, как пусто, как чисто, как подготовлено, чтобы покидать каждое мгновение в полном расчете с внешним миром! Ничего не было в этой комнате — лишь я, с толстотою и неприличием своего здоровья и желания быть, ощущал не то кухонный жар своего тела, не то прохладу склепа: то ли я был здесь из другого пространства, то ли оно было другим…
Что-то сместилось в моем восприятии: я беспрестанно путал внешнюю и внутреннюю поверхность явлений и предметов — чувство из неуютных, — уже с неприязнью взглядывал на этого маньяка, написавшего однако «Последний случай писем» — книгу столь удивительную, что только я сам бы мог ее написать, если бы мог… С такой радостью схватился я за это безнадежное задание — отыскать могилу загадочного Ваноски. И вот на тебе, нашел! не могилу, а самого и живого! Но вот живого ли? Нашел — чтобы стынуть от соседства этого минус-человека, удивляться иронии провидения, посылающего способность, даже не способность — возможность, даже не возможность — случай возможности создания такой книги… такая сила — в мертвых чреслах нежившего человека… наткнуться горячей, пульсирующей завистью на напрасность любой зависти и еще испытывать мучительное чувство неловкости оттого, что тормошишь добросовестно удалившегося от жизни человека, словно это твоя роль — доставить ему последнюю, все-таки живую боль. Любое мое движение разрывало его ветхий пепельный кокон, похожий, по детской памяти, на опустевшее осиное гнездо! Теперь мне казалось, что с первого взгляда, как только я вошел к нему в лифт, старик признал во мне своего палача — столько тоски, в пределах воспитанности и приличия, но до краев заполнив площадочку этих пределов, выразил его первый взгляд. Не мог он вот так смотреть на каждого пассажира — значит, уже ждал… Но в то же время — это было мне точно известно — меня-то он ждать не мог, потому хотя бы, что ничего уже не ждал от своих книг, никакого эффекта, — значит, он ожидал кого-то. Этим «кто-то» мог оказаться я, но не оказался — это я понял по тому, как быстро страх покинул его, когда я объяснил ему свою задачу. Однако когда он его покинул, то было это, как мне показалось, не только облегчением, но в ту же секунду — разочарованием. Ему стало скучно, напрасно и досадно в той последней мере, о которой я мог бы лишь предполагать, но не иметь представления: не знал я о той пропасти отсутствия, в которую повергнут автор, воссоздающий близкие и понятные нам вещи…
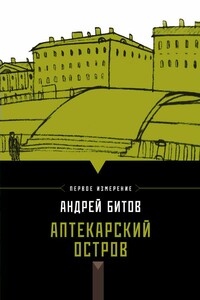
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
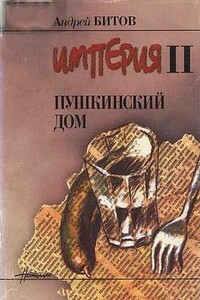
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

«Пушкинский том» писался на протяжении всего творческого пути Андрея Битова и состоит из трех частей.Первая – «Вычитание зайца. 1825» – представляет собой одну и ту же историю (анекдот) из жизни Александра Сергеевича, изложенную в семи доступных автору жанрах. Вторая – «Мания последования» – воображаемые диалоги поэта с его современниками. Третья – «Моление о чаше» – триптих о последнем годе жизни поэта.Приложением служит «Лексикон», состоящий из эссе-вариаций по всей канве пушкинского пути.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Мы приходим в этот мир ниоткуда и уходим в никуда. Командировка. В промежутке пытаемся выполнить командировочное задание: понять мир и поделиться знанием с другими. Познавая мир, люди смогут сделать его лучше. О таких людях книги Д. Меренкова, их жизни в разных странах, природе и особенностях этих стран. Ироничность повествования делает книги нескучными, а обилие приключений — увлекательными. Автор описывает реальные события, переживая их заново. Этими переживаниями делится с читателем.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.

Все шесть пьес книги задуманы как феерии и фантазии. Действие пьес происходит в наши дни. Одноактные пьесы предлагаются для антрепризы.

Я набираю полное лукошко звезд. До самого рассвета я любуюсь ими, поминутно трогая руками, упиваясь их теплом и красотою комнаты, полностью освещаемой моим сиюминутным урожаем. На рассвете они исчезают. Так я засыпаю, не успев ни с кем поделиться тем, что для меня дороже и милее всего на свете.

Дядя, после смерти матери забравший маленькую племянницу к себе, или родной отец, бросивший семью несколько лет назад. С кем захочет остаться ребенок? Трагическая история детской любви.