Повседневная жизнь советского города - [5]
Такой, казалось бы, совершенно примитивный подход позволяет придать «общемировое человеческое лицо» истории России 20–30-х гг. Ведь в это время население большинства стран Европы проходило процесс адаптации к новой социальной реальности, появившейся после «большой войны». И здесь особенно перспективным представляется использование дихотомии «норма — аномалия». Мирное течение общественной жизни, используя понятие адаптивной нормы, можно считать нормальным ходом развития, а войну — патологическим, аномальным. Однако и в бытовом сознании, и в научной литературе не случайно возник термин «потерянное поколение», применяемый обычно для идентификации личности в межвоенном двадцатилетии. «Потерянность» рассматривается как утрата прежних ориентиров. Действительно, первая мировая война продемонстрировала всю жесткость надвигающейся индустриальной цивилизации. Россия, и без того отставшая от Запада в осуществлении процессов модернизации и индустриализации, оказалась в наиболее сложном положении. Даже в начале XX в. процесс переделки «человека русского» (патриархально крестьянского) в «человека индустриального» шел крайне медленно. Социальные потрясения 1917 г. еще больше осложнили ситуацию. Возврат к мирной жизни, оказавшийся непростым даже для Запада, был особенно сложен в России 20–30-х гг. и одновременно чрезвычайно интересен, если рассматривать его с позиций сочетания патологии и нормы.
Особенность историко-антропологических исследований, как отметил Ю. Н. Афанасьев, состоит в стремлении сформулировать «вопросы к прошлому, исходя из современного контекста…»[5]. В сегодняшней России и в сфере научного знания о ее прошлом проблемы социального добра и социального зла приобретают особое значение. Понимание их относительности и неразрывности чрезвычайно важно для процесса формирования открытого гражданского общества. И вероятно поэтому вопрос — что такое хорошо, а что такое плохо? — по отношению к нашей недавней истории не столь уж бестактен и бесполезен. Конечно, не следует ждать, что социальная теория, в данном случае концепция отклоняющегося поведения, сможет детально описать все многообразие исторической действительности. Ведь о законах общественного развития в строгом понимании теоретического знания вообще говорить нельзя. Ограничения — это базовая основа любой научной концепции. Истории трудно существовать в этих рамках. Однако использование понятия аномии в дюркгеймовском контексте позволит обратить внимание на ситуацию правового вакуума в советской России во всяком случае в начале 20-х гг., а впоследствии — на попытки возместить отсутствие необходимых обществу юридических норм неким социально-политическим давлением. Мертоновская же идея о рассогласованности между социокультурными целями и легальными способами их достижения как постоянном источнике роста девиантных проявлений дает возможность поставить вопрос о социально-экономическом неравенстве в российском обществе 20–30-х гг. Одновременно следует помнить об особом семиотическом смысле слова «норма» для советского человека. Советское государство было основано на строго нормированном централизованном распределении. «Нормы» существовали в системе снабжения продуктами питания, предметами быта; они действовали в жилищной сфере, регламентировали доступ к духовным ценностям. Закрепленные юридически и реально действующие в повседневной жизни, эти нормы, в свою очередь, оказывали серьезное воздействие на ментальность.
Что считалось нормальным, а что ненормальным в советском обществе в 20–30-е гг.? Ответ на этот вопрос составляет задачу книги. Самым простым способом найти ответ кажется анализ правовых норм 20–30-х гг. Они составляют общеобязательные, установленные и охраняемые государством правила поведения и зафиксированы в источниках совершенно определенного характера. Сложнее реконструировать нормы, действовавшие в сфере ментальности, названной Ф. Броделем «темницей, в которой заключено время большой длительности». Ментальные установки связаны с повседневной жизнью, которая весьма инерционна и инертна, и перемены в ней и ее стабильные нормы трудно уловимы. Кроме того, поле их фиксации весьма неопределенно. Для выявления того, что является нормой в историко-антропологическом плане, необходима специальная методика. Ее источниковедческий аспект сводится к обращению особого внимания на источники личного происхождения, к проведению их семантико-семиотического анализа. Однако, учитывая положение М. Фуко о несовпадении дискурсов и практик, а в данном случае представляемых и реально существовавших правил поведения, необходимо анализировать и документы партийно-государственного происхождения. Это связано с объективной взаимозависимостью норм права и ментальных норм, которые, таким образом, возможно реконструировать, исследуя не столько нормативные, сколько нормализующие суждения власти. Эти суждения не всегда имели силу закона (речь идет о документах коммунистической партии, комсомола, профсоюзов), но оказывали регламентирующее воздействие на повседневную жизнь, а, следовательно, и на ментальность населения.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Проституция в Петербурге. М.: Прогресс-академия, 1994Эта книга о проституции. О своеобразных взаимоотношениях: масть - падшая женщина. О просто свободной любви в царской России и о «свободной коммунистической любви» в России социалистической. Наконец, эта книга о городской культуре, о некоторых, далеко не самых лицеприятных ее сторонах. Историк Наталья Лебина и архивист Михаил Шкаровский, отказавшись от пуританского взгляда на проблему соотношений элементов культуры и антикультуры в жизни города, попытались нарисовать социальный портрет продажной женщины в «золотой век» российской проституции на фоне сопутствующих проституции явлений - венерических заболеваний, алкоголизма, преступности.
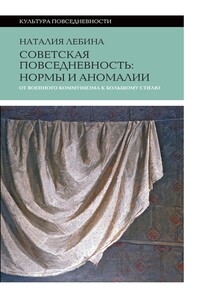
Новая книга известного историка и культуролога Наталии Лебиной посвящена формированию советской повседневности. Автор, используя дихотомию «норма/аномалия», демонстрирует на материалах 1920—1950-х годов трансформацию политики большевиков в сфере питания и жилья, моды и досуга, религиозности и сексуальности, а также смену отношения к традиционным девиациям – пьянству, самоубийствам, проституции. Основной предмет интереса исследователя – эпоха сталинского большого стиля, когда обыденная жизнь не только утрачивает черты «чрезвычайности» военного коммунизма и первых пятилеток, но и лишается достижений демократических преобразований 1920-х годов, превращаясь в повседневность тоталитарного типа с жесткой системой предписаний и запретов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

В русскоязычном интернете "Планом Даллеса" обычно называются два довольно коротких текста.1. Фрагмент приписываемых Даллесу высказываний, англоязычный источник которых нигде не указывается.2. Фрагменты директивы Совета Национальной Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г. Их обычно цитируют по книге Н.Н.Яковлева "ЦРУ против СССР"Первый фрагмент является компоновкой высказываний персонажа из романа "Вечный Зов"Второй фрагмент представляет собой тенденциозно переведенные "фигурные цитаты" из реального документа NSC 20/1.Полюбуйтесь на документ полностью.Взято с www.sakva.ru.