Повести - [55]
— А-а-а-а!
По сердцу резанула догадка.
С одним партизанским наганом на троих мы побежали к реке.
— Возьми мою палку!.. Погоди! — запыхавшись, кричал сзади Цупрон. — На, возьми… Я разбужу мужиков…
Микола первым добежал до речки. Еще на этом берегу, нагнувшись, он крикнул:
— Михась!..
Догадка превратилась в страшную правду.
Зять проложил на хрупком снегу длинный кровавый след. Полз на руках, раненный в ногу, в одном белье. Молча дополз до реки и, теряя силы, скатился сверху на лед. Умудрился еще добраться до этого берега, сумел еще ухватиться за прибрежный лозняк, да здесь уже, должно быть, испугался, что дальше сам не справится, и закричал.
Мы повернули Михася на спину, но сквозь кровь, которая текла по лицу, заливая рот, сквозь хрип разобрали только два слова:
— Я-а… о-дин…
За нами от деревни бежали люди. Сначала их было двое или трое, и я узнал по голосу Шарейку. Потом, когда я догнал Миколу, когда Чугунок — в распахнутом кожушке и с топором — задышал рядом со мной, мне вновь подумалось, что враги еще там, где остались Валя с Верочкой.
Но их, конечно, там уже не было. Там была смерть. Когда я увидел ее, осветив фонариком хату, фонарик мой, показалось мне, погас…
Граната разорвалась здесь — между люлькой и постелью. Ребенка ударило о край стола. Валю, должно быть, люлькой отбросило к стене, — она лежала головой под столом, в луже крови.
Я взял запястье ее маленькой, холодной руки и раньше еще, чем успел это осознать, крикнул:
— Жива!..
Кто-то из хлопцев разыскал полотнище — скатерть, что ли, — и мы обернули окровавленное тяжелое тело. Тогда Шарейка снял с себя длинный кожух, мы закутали в него Валю и вдвоем понесли к нам, в деревню.
Михась был уже там.
Давно это было, больше десяти лет назад, когда сестренку мою ударил огромной лапой по худенькому детскому личику плюгавый осадник[31] Куля — панский учитель заболотской школы.
И Валька не пошла больше в школу. Вышла назавтра из дому, прошла немножко вдоль забора, а потом, словно вспомнив что-то, с плачем побежала назад. Мама взяла ее на руки и понесла в школу сама — вместе с чернильницей в испачканных чернилами пальчиках, вместе с полотняной сумкой, на которой неумелой рукой девочки было вышито кривыми буквами ее красивое имя.
Меня не было тогда два дня дома, и мать хотела уладить это дело сама. Собиралась даже сказать учителю, что ему, хотя он и пан, не годится быть зверем, но он затопал на нее и зарычал еще сильнее, чем на маленькую первоклассницу. Возвращаясь домой, они обе плакали, и мама успокаивала Валю тем, что придет управа и на панов.
Но я не хотел ждать, пока она придет. Вернувшись домой вечером, я взял с собой увесистую палку, поставил ее возле школьного крыльца и постучал в дверь того, кто не заслуживал святого имени «учитель».
Куля, должно быть, дремал или просто валялся в пьяном угаре: я застал его в постели. Он сел — весь измятый, взлохмаченный — и хриплым голосом спросил:
— Ну, чего?
Когда же я предложил ему выйти со мной во двор, он все понял и встал…
— Зачем во двор? Чего я пойду так поздно во двор? — бормотал он, шаря глазами вокруг, по-видимому силясь что-то припомнить. Потом он кинулся в угол к этажерке, и я угадал его намерение…
Под рукой у меня было только одно оружие — табурет у порога, который я схватил и швырнул в угол. Должно быть, удачно, потому что осадник взревел, и вслед за этим вдогонку мне по школьной двери ударили два выстрела из его пистолета…
Это было давно, когда я был еще подростком, когда полицейские могли бросить меня в подвал.
А сегодня враг — ничтожный, подлый убийца детей — ночью, по-волчьи, прокрался в светлый наш дом и тут же — рядом со мной, рядом с нами, солдатами, — ударил Валю так страшно, как это могут придумать только они…
Верочки больше нет: где-то там, на нашем кладбище, уже, видимо, опустили в глубокую узкую яму маленький сосновый гробик. Валя тоже не видела этого…
Она лежит на койке районной больницы, а я сижу у нее в ногах. Давно сижу — давно прошел тяжелый сегодняшний день, — а она все молчит. Забинтованная голова бессильно лежит на подушке, и бледное, окаймленное бинтами лицо кажется мне маленьким, детским. Никто этого не видит, и я встаю, смотрю на закрытые глаза и сжатые губы сестры и шепчу:
— Валюша… славная моя… скажи что-нибудь… Скажи…
Тогда плеча моего снова касается чья-то рука, и голос — тихий, знакомый голос Марьи Степановны — опять выводит меня из забытья:
— Как вам не стыдно! Ведь я же говорила, что нельзя волноваться. Больной от этого не станет легче.
Я привык верить умным людям, я был неплохим солдатом, и поэтому я послушно сажусь.
— Скажите, доктор, она… будет жить?
— Ну, милый мой, конечно, будет! — говорит старушка, и добрые глаза ее серьезно смотрят на меня. — Ничего им с нами не сделать, разбойникам. Валю я им не отдам.
У Марьи Степановны — бывшего врача партизанской бригады — наша Валя была санитаркой. Она учила Валю перевязывать раны, она отправляла мою сестренку вместе с хлопцами в бой и не спала ночами, думала: где-то теперь девочка со звездой на кубанке, с красным крестом на сумке с бинтами…
— Все будет хорошо, — говорит Марья Степановна, — вы поглядите, какое дыхание.
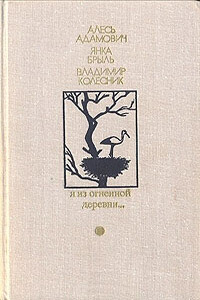
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.

Сборник рассказов белорусского писателя Янки Брыля из книги "Иду в родное". Рассказы тематически охватывают разное время — от довоенных лет до сегодняшнего дня.1. Ты мой лучший друг.2. Мать.3. Один день.4. Лазунок.5. Снежок и Гуленька.6. Галя.7. Осколочек радуги.8. Тоска.9. Звезда на пряжке.10. В глухую полночь.11. Глядите на траву.

Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведения издавались на русском языке, на языках народов СССР и за рубежом.В сборник «Повести» включены лучшие из произведений, написанных автором в разные годы: «Сиротский хлеб», «В семье», «В Заболотье светает», «На Быстрянке», «Смятение», «Нижние Байдуны».Художественно ярко, с большой любовью к людям рассказывает автор о прошлом и настоящем белорусского народа, о самоотверженной борьбе коммунистов-подпольщиков Западной Белоруссии в буржуазной Польше, о немеркнущих подвигах белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении разрушенного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы.
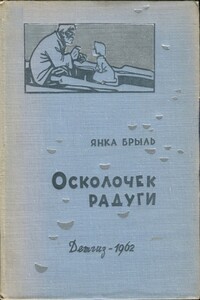
Белорусский писатель Янка Брыль детство и юность прожил в Западной Белоруссии, до сентября 1939 года находившейся в пределах бывшей буржуазной Польши. Деревенский пастушок, затем — панский солдат, невольный защитник чужих интересов, создавая теперь, в наши дни, такие произведения, как повесть «Сиротский хлеб» и цикл рассказов «Ты мой лучший друг», думал, конечно, не только о прошлом… В годы Великой Отечественной войны, бежав из фашистского плена, Янка Брыль участвовал в партизанском движении. Рассказы «Мать», «Один день», «Зеленая школа» посвящены простым советским людям, белорусским народным мстителям, обаятельным, скромным и глубоко человечным. К этим рассказам примыкает и рассказ «Двадцать» — своеобразный гимн братству простых и чистых сердцем людей всей земли. Остальные рассказы сборника — «Ревность», «Осколочек радуги», «Тоска» и «Надпись на срубе» — повествуют о радостях мирного труда, о красоте белорусской природы, о самой высокой поэзии жизни — поэзии детства.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.