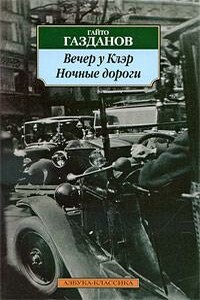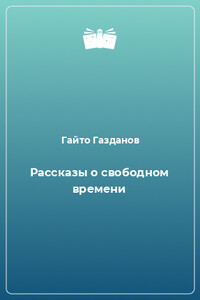А женщину прямых линий я видел здесь. У нее браслеты на руках: она любит рыжее. Все так же резко и гордо выдаются под платьем острые прямые груди: движения сохранили свою несгибающуюся стремительность. Мое окно — против ее балкона. Ночью, когда я сижу и пишу, с балкона прямыми лучами отходит свет. У нее на квартире играют в карты.
В России нас было четверо: но Володины руки и глаз разделили горькую участь честного хвоста моего друга. Оба умерли в родном городе: один от злобной пули белых, другой — от яда мохнатого сердца, которое он проглотил.
Мы остались живы: я, променявший изгибы российских дорог на ровные линии Запада, и женщина, любящая рыжее.
И осталась еще несложная аллегория: эмблема проткнутого сердца, выпавшего из собачьей пасти, урок геометрии углов и убийств, медленные стрелки тяжелых часов на готических церквах Франции, — время, покрытое ржавчиной.
II
В далеких и гулких пустырях моей памяти, окруженных зарослями крапивы безвременья, расположены квадратом четыре улицы южного города: Мещанская, Павловская, Слесарная и Владимирская. В их центре, под вывеской «Булочное и бубличное заведение», под сенью мадам Щуцман, под эгидой Израиля, в приторном запахе еврейского квартала, белеет нарисованный образ насмешливой трагичности, пляшущий скелет на черной доске времени.
В квартале, сжатом с четырех сторон богатыми улицами, — четыре заведения пользовались наибольшей популярностью: гостиница «Русское хлебосольство» на Васильевской, с разбитыми, починенными и вновь разбитыми стеклами, бильярдная Качурьянца, общественная библиотека и прохладный подвал деда с надписью в одну строку «кафе закуска три бильярда».
Неподвижный и решительный, в валенках летом и зимой, дед был похож на заснувшего пророка. Все время, сидя за своей стойкой, он дремал: просыпаясь внезапно, крякал, недоверчиво осматривал посетителей узкими глазами, глядящими на свет вот уже семидесятый год, — и снова засыпал под стук шаров некрепким сном бессильной старости. Кончив игру, его трясли за плечо:
— Платить, что ли, дед?
— Плати, плати, дорогой: как же не платить?
В бильярдной Качурьянца, черного невысокого человека с бегающими глазами, никогда не вмешивавшегося в скандалы, Шурка Кац, один из бильярдных чемпионов, торговал керенками и кокаином. Он был тайным компаньоном хозяина; вместе они торговали скверно перегнанным денатурированным спиртом, вместе старались привлечь клиентов с деньгами. Бильярдная процветала. Ее постоянные посетители состояли из профессионалов и из людей, посвятивших себя искусству рыцарей квадратных столов, упоительного звона луз и грозного треска шаров.
Гостиница «Русское хлебосольство», одноэтажное грязное здание, казалось, вместе с одесситом-хозяином усвоила южный темперамент — отчаянные крики из-за упавшего в щель пятака и свирепые драмы из-за просчитанного полтинника.
Из гостиницы с утра гремели голоса, к обеду стихали — и снова возвышались к вечеру, регулярные и упорные, как приливы и отливы.
Из окна доносилось:
— То есть как это так, платить не будете?
— А очень просто.
— Вот так. А!
Слышался звон стекол, топанье ног и из двери стремительно выбрасывался чьей-то рукой хозяин гостиницы, высокий апоплексический человек. Его несчастье заключалось в том, что он прожил до сорока лет, не научившись координировать движения, а это было особенно важно для его профессии — трактирщика неспокойного квартала. Удары его попадали мимо, левая рука как-то заскакивала за спину, а ноги наступали одна на другую — то ли от того, что был он хронически пьян, то ли от этого рокового неумения вовремя их переставлять.
Уже с улицы он орал:
— Ты без ножа докажи! С ножом всякий может!
Из дверей выходил победитель, Мишка-переплетчик, средний тип с гладким и незапоминающимся лицом.
— Эх, ты, хозяин!
Но торжество Мишки было недолгим: лютый горбатый старичок, помощник хозяина, оглушал Мишку сзади — предательским ударом тяжелой дубовой палки, и Мишка с шумом падал на тротуар.
На следующий день он снова приходил в «Русское хлебосольство».
— Ты, Петрович, не сердись, поспорили мы вчера.
— Бог с тобой, Миша, и мысли такой не было, чтобы сердиться.
* * *
Я любил тихий вечерний воздух Павловской улицы. Из-за углов приближался шум большого города, но сворачивал в сторону и исчезал. Мелькали поздние тени прохожих, и два фонаря — на всю улицу — горели неярко и неровно. Тяжелые плиты камней лежали, утомленные солнцем и суетливой дневной беготней. Иногда появлялись дочери мадам Шуцман: старшая, Софья, высокая надменная девушка, ученица театральной студии, проходила с книжкой Блока или Брюсова; она всегда спешила: зайдет домой на минуту — и снова в город. Младшая, Маруся, всегда что-то напевавшая, — беззаботная посетительница скабрезных фарсов, подозрительных театров и Лиги свободной любви. Мадам Шуцман знала, что ее дочери уже потеряли все, что в них было еврейского, и никогда не вернутся в семью.
Вечером мадам Шуцман выходила на улицу — погрызть семечек, «подышать свежим воздухом». Огромная, расплывшаяся, с животом, выносившим двенадцать существ, из которых выжило только двое, с сединой в волосах и неспокойными глазами, она казалась значительно старше своих лет. И только красные невыцветшие губы да быстрые и неожиданные движения говорили о том, что не так давно она была молодой.