Последний из праведников - [98]
Убежденный атеист, господин Дюмулен называл евреев не иначе как иудеями. Он в глубине души считал, что слово «еврей» иезуиты выдумали назло франк-масонам. Все это привело к последствиям, досадным для покойного Эрни Леви, которому пришлось расстаться со своим беспечным существованием. Однажды, когда он отдыхал после обеда в алькове, прибежала его фермерша с пылающим лицом и повела такую речь:
— Ты меня обманул: ты еврей!
— А ты что, не догадывалась?
— Я знала, что ты иудей, потому что… ну, словом, я это знала. Но я только что разговаривала с господином секретарем мэрии, и он меня заверил, что иудеи — те же евреи.
— Возможно. А в чем действительно разница?
— В чем разница? — заорала оскорбленная фермерша. — Ты как себе представляешь, могу я спать с евреем в постели моего Пьера? И еврей этот может сидеть в его кресле и носить его костюмы и рубашки? Ну, нет! Это уж слишком!
— Ладно, — сказал покойный Эрни и поднялся.
— Куда ты?
— Я ухожу.
— Это еще почему? Я тебе устрою хорошую постель в сарае.
— Ну, а с остальным как же? — забеспокоился сумасшедший.
— Ах, ты про это! Что ж, нужно соблюдать осторожность, а то знаешь, что будет, если мой бедный Пьер (она всегда добавляла «бедный», желая этим выразить и свое горе по поводу того, что муж находится в плену, и странное сочувствие, которое испытывала к нему оттого, что его обманывала), если мой бедный Пьер узнает, что мы… что я… Нет, нет, теперь будет это самое в конюшне. И потом, — добавила она вдруг, — уж очень ты привольно себя чувствуешь в последнее время. Теперь я тебя приберу к рукам. И масла надо мазать на хлеб поменьше, ну, и все такое прочее.
— А если я не захочу?
— Неужто?! — сказала она насмешливо.
— Ладно, — согласился сумасшедший, и жизнь потекла по-прежнему.
Мистраль утих. На землю сошло тепло. Даже оливковые деревья уже не мучились, и иногда по вечерам казалось, будто все живое радуется под мирным небом. По воскресеньям Эрни ходил в деревню, тупо слушал мессу, потом задумчиво пил анисовку, смотрел, как живые существа играют и шары в тени церковных ворот, снова пил анисовку… Как-то раз один из игроков бросил на него такой взгляд, что ни побледнел. Это был деревенский кузнец, вернувшийся из плена. Он катил шар, не сгибаясь, потому что осколок гранаты так и застрял у него в спине. Потом Эрни увидел его в кузнице. По молчаливому согласию, оба не касались вопроса о том, какими судьбами они очутились в одной деревне. У кузнеца было лицо типичного северянина, но по-южному горячие и быстрые глаза. Он был рослый, длинноногий; огромные ручищи болтались в такт его шагам, словно помогая ему сохранять равновесие. Видно было, что он с такими руками не родился: это со временем они стали мощными орудиями труда и покрылись толстой серой кожей, изъеденной припоем, под которой угадывались мускулы и жилы, мощные, как у борзой. Глядя, с какой точностью действуют эти машины, Эрни думал, что, наверно, значительная часть ума у кузнеца ушла в пальцы. Поэтому уважение, которое Эрни питал к этим рукам, возрастало от визита к визиту.
Кузнец никогда не задавал таких вопросов, которые заставляли бы вас возводить нагромождения небылиц, хрупкие, как карточные домики. Его, казалось, интересует только будущее. Лишь изредка, не глядя на собеседника, ронял он многозначительные фразы такого типа: «Знаешь, парень, есть вещи, которые нам кажутся вечными. Мистраль, к примеру, зарядил на всю неделю, а потом, глядишь, в одно прекрасное утро — и солнце выходит. Понимаешь?» После подобных изречений он приглашал Эрни выпить «глоток» анисовки. Они входили в кузницу (три ступеньки вниз), и украшенная лентами толстуха приносила кувшин свежего напитка. Она тоже никогда не спрашивала Эрни о прошлом, словно между ней и мужем был такой уговор. Когда дети возвращались из школы, Эрни часто оставляли на обед. Дети тоже избегали даже самых невинных вопросов. Они лишь старались развлечь сумасшедшего, которого временами вдруг покидало безумие, и, как при вспышке молнии, он видел перед собой этот немыслимый мир, эту Францию, о которой он и не подозревал, простую и добрую, как хлеб. И хотя он боялся (пусть неосознанно), что от этих встреч ослабнут цепи, сковывающие его ум, удержаться от тяги к опасному источнику света он тоже не мог.
— Послушайте, — сказал он однажды своему приятелю, — почему-то мне кажется, что не то вы меня знаете, не то еще что-то… С самого первого дня…
Кузнец ответил не сразу.
— Вот что, парень, — тихо сказал он наконец, не поднимая глаз от наковальни, — не знал я тебя раньше, можешь мне поверить. Просто я сразу же увидел что ты еврей.
— Но я не еврей! — в испуге закричал Эрни.
Кузнец опустил молот на наковальню, подошел к молодому еврею и положил свои тяжелые руки ему на плечи.
— Я, значит, похож на еврея, — сказал Эрни мелодичным голосом, который так легко вышел у него из горла, будто он вновь вспомнил забытый мотив.
И тут заговорил кузнец.
— Не знаю, — сказал он, — на кого похож еврей. По моему разумению, люди как люди. В нашем лагере были евреи, но я это сообразил уже потом, когда фрицы их увели. Только вот что. Когда шел я из плена, я сделал крюк. Мне нужно было попасть в Дранси. Друга моего убили, а жена его там живет, недалеко от Парижа. Рано поутру немецкие машины прогнали всех с дороги на тротуар, и мы увидели, как мимо нас на полной скорости промчался автобус с еврейскими детьми. У всех были звезды нашиты. Рожицы к окнам прилипли и смотрели на нас… а ноготками они все скребли и скребли стекла, будто выйти хотели… Лиц различить я не мог, но у всех были такие глаза, каких я прежде никогда не видел и не приведи Господь увидеть снова. Так вот, парень, не там на шарах, а еще в церкви, когда лица твоего мне не удалось разглядеть, глаза я узнал сразу. Понимаешь?
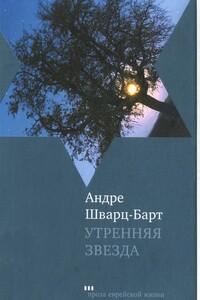
Французский писатель Андре Шварц-Барт (1928–2006), потеряв всех своих родных в нацистских лагерях уничтожения, с пятнадцати лет сражался за освобождение Франции, сначала в партизанских отрядах, а потом в армии генерала де Голля. Уже первый его роман о нелегкой судьбе евреев в Европе от Средних веков до Холокоста («Последний праведник») в 1959 году был удостоен Гонкуровской премии. Изданная посмертно последняя книга Шварц-Барта «Утренняя звезда», которая рассказывает о пареньке из польского поселка, прошедшего Варшавское гетто и Освенцим, подхватывает и завершает тему судьбы народа, понесшего огромные жертвы во время Второй мировой войны.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
