Последний из праведников - [109]
— Хотела я вам только что сказать, — начала она, — да подумала, пусть раньше поднимется. Это у меня уже третьи евреи. Говорить, конечно, я не мастер, только уж не такая я вредная, как люди думают. Вот, возьмите.
Эрни остолбенело поднес гармонику к губам, и она издала резкий неприятный звук.
— Это потому, что они ее растоптали. Она мне ее бросила и чье-то имя назвала, а я сразу поняла, что ваше: потому что, может, в чем другом и нет, но в жизни я хорошо разбираюсь. Тут один из этих господ подобрал гармонику, хотел посмотреть, что в ней. Может, думал, там драгоценности, а может, просто полюбопытствовал. Он-то ее и растоптал. Ну, а потом они сели в грузовик и… Да чего тут говорить — вы и сами знаете.
— Неважно, ее можно починить, — проговорил Эрни и, заметив удивленный взгляд консьержки, добавил: — Не беспокойтесь, мадам, ваши евреи вернутся. Впрочем, все евреи вернутся. Все. Ну, а если нет — у вас всегда найдутся негры, или алжирцы, или горбуны, — докончил он, еле сдерживая дрожь.
— Что вы такое говорите?
— Ой, извините меня, — сказал Эрни, — простите, пожалуйста, не сердитесь, не знаю уж, как извиниться, и большое спасибо, простите…
— Убирайтесь отсюда, пока из меня еще жалость не ушла.
А еврей продолжал неловко настаивать:
— Вы простите меня, честное слово, у меня как-то само собой так получилось, просто вырвалось — и все тут.
Слово «Дранси» само по себе ничего не значит, это название одного из парижских предместий, написанное на фронтоне обыкновенного вокзала. Открытые платформы, допотопные часы, время на них будто не идет, а тянется с чисто французской медлительностью, безликая толпа пассажиров, служитель в форменной фуражке стоит, опершись о бетонный барьер, и, не глядя, отбирает билеты, перед ним открывается весь городок, затопленный солнцем, какое бывает только в Иль-де-Франс. Короче говоря, даже настороженному взгляду не удается уловить ни малейших признаков лагеря, одно упоминание о котором пугает еврейских детей больше, чем все страшные сказки. Эрни испытал знакомое чувство, которое не раз уже в жизни испытывал: его подавляла и ошеломляла невероятная способность человека сотворить страдания из ничего или почти из ничего. Небо над крышами Дранси было такое же легкое, чистое и манящее, как небо над Шлоссе, взиравшее на детей, когда те устраивали под ним ад; такое же спокойное, как небо, глядевшее на гибель 429 пехотного полка и на собачье отчаяние Эрни. На следующий день после налета американских бомбардировщиков, уничтоживших, по газетным сведениям, Сен-Назер на три четверти, город проснулся все под тем же ласковым небом. Неодушевленные предметы не участвовали в отвратительных затеях людей. Где-то в Дранси таился гнойник, источавший непостижимое количество страданий, но ни по городку, ни по небу над ним об этом нельзя было догадаться. Эрни долго шел в том направлении, какое ему указал станционный служащий, пока не увидел бетонную громаду, которая возвышалась над маленькими крышами, словно помыкая ими; пройдя еще немного по плохо вымощенной дороге, он неожиданно очутился перед огромным жилым массивом, который, казалось, вырос на соседних огородах и пустырях и стоял среди них, как неприступная крепость. Мимо Эрни не спеша проехал молодой велосипедист; щеки у него раскраснелись на солнце, а взгляд сиял молодостью; он ехал по самой середине дороги между лагерной стеной, обнесенной колючей проволокой, и низенькими домами. Поприветствовав жандармов, стоявших у ворот, точнее, у деревянной некрашеной двери, велосипедист свернул налево, подрулил к тротуару, на который падала тень от колючей проволоки, и, насвистывая, вошел в соседнее бистро.
Эрни подошел к двум жандармам.
— Разрешите мне, пожалуйста, войти в лагерь, я еврей, — сказал он, поклонившись и поплотнее прижав к себе узелок выходцев из Земиоцка.
— Слыхал? — сказал первый жандарм, показывая на звезду Эрни. — Он еврей! И это точно, как то, что я — жандарм.
— Свидания запрещены, — важно сказал второй. — Но передачу оставить не возброняется. Это мы уладим… — многозначительно подмигнул он своему напарнику.
— Войти-то можно — выйти нельзя, — сказал тот, насмешливо похлопывая Эрни по плечу.
— Как раз об этом я и прошу, — почтительно объяснил Эрни, выждав, пока жандармы перестали смеяться. — Я хочу там остаться.
Последовав примеру толстого жандарма, Эрни подмигнул им обоим, потом улыбнулся и наклонил голову, словно приглашая вволю посмеяться над собой.
Ответом ему было ошеломленное молчание, из чего Эрни понял, что просчитался. Когда же за молчанием последовал взрыв гнева, он с изумлением сообразил, что жандармы считают себя всего лишь охранниками того зверья, которое доставляет сюда гестапо, и видят для себя страшное оскорбление в том, что их хотят возвести в ранг охотников.
— Это же не наше дело! Обратись куда положено! Здесь лишь приемка товара — и только!
Однако в том рвении, с каким они отказывали в его просьбе, Эрни уловил, как ему показалось, немой упрек за то, что он кощунствует перед немецкими богами, отдаваясь им в руки добровольно, а не дожидаясь, по примеру своих соплеменников, дня и часа, назначенного высшей властью. Наконец, жандарм с более степенной осанкой (Эрни только сейчас заметил у него на рукаве нашивки) раздраженно взмахнул прикладом и со словами «Хитрить тут еще будут!» бесцеремонно вытолкал его на середину улицы.
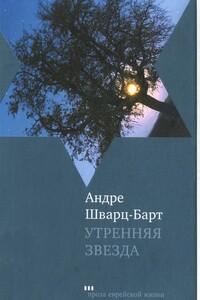
Французский писатель Андре Шварц-Барт (1928–2006), потеряв всех своих родных в нацистских лагерях уничтожения, с пятнадцати лет сражался за освобождение Франции, сначала в партизанских отрядах, а потом в армии генерала де Голля. Уже первый его роман о нелегкой судьбе евреев в Европе от Средних веков до Холокоста («Последний праведник») в 1959 году был удостоен Гонкуровской премии. Изданная посмертно последняя книга Шварц-Барта «Утренняя звезда», которая рассказывает о пареньке из польского поселка, прошедшего Варшавское гетто и Освенцим, подхватывает и завершает тему судьбы народа, понесшего огромные жертвы во время Второй мировой войны.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
