Последний из праведников - [106]
— Нет, это ужасно дорого, — возразила Голда, — и вообще я предпочитаю быть на улице и смотреть на настоящую жизнь.
Она по-хозяйски обвела вокруг себя рукой. Велев ей никуда не отходить, Эрни вскоре вернулся с двумя порциями мороженого. Она выбрала зеленое и, вытянув шею, чтобы случайно не капнуть на блузку, впилась в него зубами, задохнулась, подавилась и выплюнула восхитительную сладость. Потом она посмотрела на Эрни и, переняв его опыт, стала лизать вафлю языком. Он подумал, что, кушая мороженое, она как будто смакует самое себя; она всегда смаковала самое себя, что бы ни делала, что бы ни говорила, даже когда бросала жадные взгляды на павильоны, украсившие в честь праздника бульвар Сен-Мишель, даже когда смотрела на Эрни. Эрни же чувствовал, что он с головой уходит в мечту и в нем не остается ни капли ненависти к самому себе.
Покончив с мороженым, они отправились дальше и по бульвару Сен-Мишель дошли до площади Данфер, где стоит лев, такой же строгий и величественный, как лев Иехуды, который охраняет Скинию Завета. Потом им понравилась какая-то прелестная улочка, и они по ней вышли на проспект Мэн, А там оказался еще более прелестный скверик — настоящий оазис, со всех сторон окруженный домами, которые крепко уснули на солнце, прикрыв окна шторами. Молодые люди долго выбирали скамейку, наконец выбрали. Голда сунула под нее сумку, и они уселись как обычные парижские влюбленные, уставившись невидящим взглядом на детей, на нянек, на старух, которые тоже блаженствовали в сквере Мутон-Дюверне.
— Подумать только, что тысячи людей здесь сидели до нас! Даже не верится… — сказал Эрни.
— Вот, послушай, — сказала Голда. — Что это такое? Существовало еще до Адама. Только меняло два цвета своих покровов: само же ничуть не изменилось, хотя прошли тысячелетия. Что это такое?
— У моего отца на каждый случай были притчи, а у твоего — загадки, — сказал Эрни.
— Это время, — задумчиво сказала Голда, — а два цвета — это день и ночь.
Их сблизила одна и та же мысль, а время мчалось с коварной быстротой и неожиданно скрепило их счастье печатью первой звезды.
— Не могу понять, почему они запрещают нам заходить в скверы, — прошептала Голда. — Ведь это природа…
Высоко в небе над Парижем проплывало розовое шелковистое облако: вот оно миновало многоэтажный дом на другой стороне проспекта Мэн; Эрни провожал его взглядом до самой Польши, туда, где под тем же августовским небом умирал еврейский народ.
— Послушай, Эрни, — сказала Голда, — ты же знаешь христиан, скажи, за что они нас так ненавидят? С виду они такие добрые, если смотреть на них без звезды.
Эрни обнял Голду за плечи.
— Этого понять нельзя, — прошептал он на идиш. — Они и сами точно не знают. Я бывал в их церкви, читал их евангелие… Знаешь, кто такой был Христос? Простой еврей, как твой отец: что-то вроде хасида.
— Ты шутишь, — мягко улыбнулась Голда.
— Нет, нет, честное слово; я даже уверен, что они с твоим отцом нашли бы общий язык; потому что Христос действительно был хороший еврей, знаешь, немножко, как Баал-Шем-Тов: милосердный, кроткий. Христиане говорят, что любят его, а по-моему, сами того не подозревая, они его просто ненавидят; потому-то они и берутся за крест с другого конца и превращают его в меч и разят нас этим мечом. Понимаешь, Голда, — вдруг закричал он, страшно взволнованный, — они берут крест и поворачивают его другим концом, другим концом…
— Тише, тише, — остановила его Голда, — нас услышат. — Она провела рукой по его шрамам на лбу, как делала обычно, и улыбнулась. — Ты же мне обещал сегодня не думать.
Эрни поцеловал ее руку и упрямо продолжал:
— Бедный Иешуа, если бы он вернулся на землю и увидел, что язычники сделали из него меч и разят им его же братьев и сестер, он бы так опечалился, так безгранично опечалился… А может, он все это и видит: ведь, говорят, некоторые Праведники остаются у врат рая, потому что не хотят забывать людей; они тоже ждут Мессию. Кто знает, может, и видит… Понимаешь, Голделе, он хороший еврей, такой же простой, как мы, обыкновенный Праведник, как все наши Праведники, ни больше, ни меньше… Наверняка твой отец нашел бы с ним общий язык. Я так и вижу их вместе. «Ну, что ты на это скажешь, мой добрый рабби, — сказал бы твой отец, — прямо сердце разрывается смотреть на все, что творится». А тот взялся бы за бороду и ответил: «Но ты же знаешь, мой добрый Шмуэль, что еврейское сердце должно разрываться, разрываться и разрываться во благо всех народов. На то мы и избраны. Разве ты этого не знаешь?» А твой отец сказал бы: «Ой-ой-ой, еще как знаю! К сожалению, достопочтенный рабби, только это я и знаю…»
Оба рассмеялись. Голда достала из сумки гармонику, повертела ее у Эрни перед носом и начала играть непозволенную мелодию: старинную песню надежды — Хатиква. Тревожно поглядывая на бульвар Мутон-Дюверне, она вкушала удовольствие, как от запретного плода. Эрни наклонился, вырвал пучок пожелтевшей травы и посыпал ею еще влажные волосы Голды. Когда они поднялись уходить, он хотел стряхнуть этот жалкий венок, но девушка удержала его руку.
— Пусть люди смотрят; тем хуже для них. И для немцев тоже. Сегодня я всем говорю: «тем хуже». Всем, — повторила она, вдруг став серьезной.
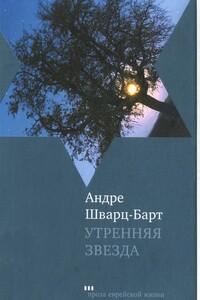
Французский писатель Андре Шварц-Барт (1928–2006), потеряв всех своих родных в нацистских лагерях уничтожения, с пятнадцати лет сражался за освобождение Франции, сначала в партизанских отрядах, а потом в армии генерала де Голля. Уже первый его роман о нелегкой судьбе евреев в Европе от Средних веков до Холокоста («Последний праведник») в 1959 году был удостоен Гонкуровской премии. Изданная посмертно последняя книга Шварц-Барта «Утренняя звезда», которая рассказывает о пареньке из польского поселка, прошедшего Варшавское гетто и Освенцим, подхватывает и завершает тему судьбы народа, понесшего огромные жертвы во время Второй мировой войны.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
