Последнее свидание - [3]
Он скинул шинель на руки швейцара и уже без всякого раздумья побежал вверх по лестнице. Дверь квартиры была открыта. Из гостиной слышался непрерывный, монотонный голос.
— Над ней! неужели над ней? — почему-то с ужасом подумал Павел Аркадьевич.
На пороге он остановился. Высокий старик, медленно повернув голову, равнодушно взглянул на вошедшего и продолжал читать на тот особый лад, от которого жутко и тяжело становится на сердце.
Гроба еще не было, и покойница лежала на столе. Павел Аркадьевич принудил себя взглянуть на нее издали и сразу заметил только ее ноги. Они были обуты в белые туфли, и подошвы их, тоже белые, чистые, поднимались рядом носками вверх. В этих туфлях ей уже не суждено было сделать ни одного шага, и земной прах не должен был коснуться их.
— Неужели это она? — опять спросил себя Павел Аркадьевич. Какое-то странное любопытство овладело им, и он пошел прямо к покойнице, ступая так осторожно и бесшумно, как будто он мог разбудить ее.
Да, это была она. Он остановился и впился глазами в ее лицо. Она улыбалась, и в этой улыбке было столько спокойствия — безмятежного, ясного спокойствия, что, глядя на нее, верилось в непроницаемую тайну смерти, которая не уничтожает человека, а только указывает ему новую жизнь, новый способ существования. Душа радостно освобождается от своей оболочки и запечатлевает на ней свое последнее земное ощущение.
— Я не хотела бы жить! — припомнилось Павлу Аркадьевичу. Значит, она говорила правду, если лицо ее так радостно и спокойно. Она тосковала о своей чистоте, о своей попранной гордости. Кто знает? Не улыбалась ли она теперь своей прошлой печали, как улыбается взрослый, вспоминая свои детские огорчения? Не поняла ли она ничтожество своих самолюбивых страданий перед красотой и силой поруганной, униженной, но сознательной и глубокой любви?
— Хирела, батюшка, хирела… А тут слегла, да и отдала богу душеньку.
Павел Аркадьевич вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стояла старуха нянька и тоже смотрела на покойницу слезящимися, моргающими глазами.
— И долго болела? — успокоившись от испуга, спросил он.
— Да как? с месяц, а то и больше с постели не вставала.
— Если бы я знал! — искренно вырвалось у него.
Старуха вдруг перевела свой взгляд на его лицо… Закрасневшиеся глазки ее точно искали чего-то, но избегали встретиться с его глазами; старческий, беззубый рот беззвучно шамкал:
— Стаяла, стаяла… Сгорела, как свечечка! — пробормотала она.
Необъяснимое чувство овладело Павлом Аркадьевичем. Ему вдруг стало до крайности стыдно и неловко.
— Знает она что-нибудь или только догадывается? — подумал он, а недружелюбные, бегающие глаза старухи, все ее морщинистое лицо продолжали допрашивать его. Он отступил на два шага от стола, и ему нетерпеливо захотелось уйти, бежать от этих двух лиц: одного — такого спокойного и безмятежного, другого — враждебного и пытливого. Он хотел уйти — и не мог, не умел.
— Я приеду еще… на панихиду… сегодня же, — с трудом проговорил он. — Скажите Ивану Николаевичу.
— Скажу, батюшка, скажу, — прошамкала старуха.
— Я сам был болен. Оттого долго не был, — зачем-то солгал он. — Вспоминала меня Анна Алексеевна? — с неестественной простотой добавил он и так и впился глазами в лицо старухи. Та быстро отвела свой взгляд и стала оправлять платье на покойнице.
— А не знаю, батюшка. Ничего я не знаю, ничего…
Павел Аркадьевич почему-то усмехнулся, потом неловко, боком поклонился телу и опять так же осторожно и бесшумно направился к выходу. На пороге он невольно обернулся. Он знал теперь, что выходит в последний раз из дома, где он был принят как друг и куда он внес позор, страдание и смерть.
Но в чем бы он мог серьезно обвинить себя, если даже она, Анна Алексеевна, никогда не упрекала его? Он остался все тем же, каким он заслужил ее любовь. И любовь ее была такая же, как его, не выше и не чище. Иначе зачем бы она стала обманывать своего мужа? Она верила в его превосходство, и она верила, что такие люди, как он, стыдятся любить ради одного наслаждения, ради одной прихоти. На каком основании верила она этому?
И вдруг он увидал, что старуха схватила голову покойной и приподняла ее над подушкой. Тень от зажженной свечи скользнула по лицу Анны Алексеевны, и это лицо на один миг вернулось к жизни. Ему показалось, что она приподнялась, чтобы еще раз взглянуть на него.
Бессознательный ужас, полный малодушия, охватил его и словно приковал его к месту.
— Нет, она уже не встанет! не встанет! — подумал он, стараясь успокоить себя. И ему яснее представилось, что если бы она встала теперь, если бы она взглянула на него своими угасшими очами — он уже не нашел бы в себе силы ответить ей обычными усмешкой и презрением. И не поверила бы она теперь в это презрение. Эти глаза не опустились бы перед ним, а читали бы глубоко в его душе.
— Разве я не была такою, какою ты хотел видеть меня? Ты испугался моей любви — я успокоила тебя.
И он уже не мог бы отрицать, что не видел, не знал и этой любви, и тоски ее. И не мог бы скрыть, что он боялся их, потому что сам не ум ел, не мог любить; глумился над ними, потому что чувствовал их силу и правоту.
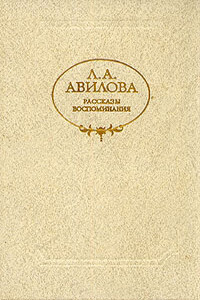
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.
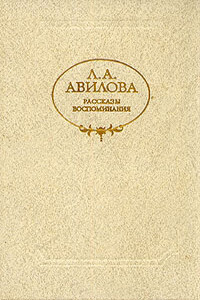
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
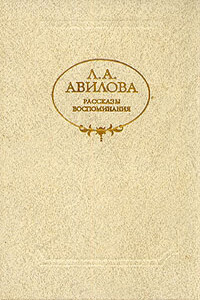
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

Творчество Лидии Авиловой (1864–1943) развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А. П. Чехова. В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80 — 90-х годов, рассказывающие о премьерах чеховских пьес, о встречах автора с Л. Толстым и М. Горьким. Сборник дополняют отрывки из дневников писательницы и ее известная, неоднократно переиздававшаяся повесть-воспоминание «А. П. Чехов в моей жизни».

Русская писательница и мемуаристка Лидия Алексеевна Авилова (урожд. Страхова) родилась 3(15) июня 1864 г. в имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, в небогатой дворянской семье. В 1882 г. окончила гимназию в г. Москве. В 1887 г. вышла замуж и переехала из Москвы в Петербург, где началась ее литературная деятельность. В доме редактора и издателя «Петербургской газеты» С.Н. Худекова, мужа сестры, познакомилась со многими известными литераторами. С 1890 г. рассказы писательницы публикуются в петербургских газетах и журґналах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».