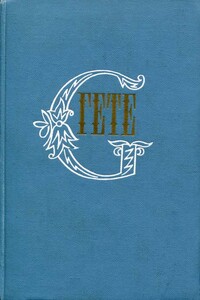По-видимому, художественные и эстетические соображения не играли тут никакой роли; иначе как объяснить, что в ту минуту, когда мы в первый раз показывались в Европу и должны были собраться со всеми силами, со всем, что за собой знали лучшего и характернейшего, мы второпях сгребли только почти одно то, что вышло из-под кисти нынешних модников и любимцев, да по дороге прихватили кое-что из прежнего, и, разумеется, при таких сборах, без плана, без мысли, без соображения, одно забыли, другое оттолкнули, третье невпопад схватили. Вспомним все и всех, чем мы до сих пор чванились, за что посылали от нас на долгие годы за границу, за что делали профессорами, за что платили дорогие деньги, — где все это? Куда девалось? Ничего на выставку не попало.
Не большая ли, однако же, это странность? Гордимся теми или другими вещами, а как только надо другим показать, что умеем делать и что до сих пор сделали, вдруг совершается превращение, и то, что прежде считали не только превосходным, но и необыкновенным, сами же мы отодвигаем прочь, беремся за совсем иное, за что не давали ни профессорства, ни денег, ни орденов. Каждый у нас мог бы протестовать, не найдя на лондонской выставке ничего из того, что всегда на его веку превозносилось как великое и гениальное или хоть значительное и прекрасное.
Но возьмем нашу выставку как она есть, она все-таки представляет довольно значительное целое, осязательно доказывающее, что у нас есть живопись и живописцы и что последние не только учились в школе, но работали и после нее.
Какой же характер имело это целое?
Иностранцам оно внушало мало симпатии и уважения, потому что представлялось им не больше как странной мозаикой напрокат, случайным каким-то маскарадом. «Русское искусство, — говорит Пальгрев, — по-видимому, находится до сих пор в таком первоначальном и шатком состоянии, что выставка его произведений не заключает высокого национального интереса. Без каталога трудно было бы догадаться, что эти; столько различные одна от другой картины, на которых отразились всевозможные влияния, кроме русского, произведены одним и тем же великим государством; а при отсутствии определенного национального стиля мы ничего не можем ожидать, кроме рассеянных, по частям, достоинств». — «Любопытно, — говорит Тэйлор, — увидеть на русской выставке сшибку всех особенных влияний, под гнетом которых русское искусство доросло до своего нынешнего, очень несовершенного развития» (далее он исчисляет эти влияния: итальянские, голландские, французские). — Что же теперь мы сами? Неужели мы больше иностранцев имеем права быть довольны нашим искусством и, несмотря на сравнения, к которым приводили чужие коллекции на всемирной выставке, все-таки будем уверять себя, что нас не понимают и не ценят? Неужели мы вечно будем убаюкивать себя ложными утешениями самодовольства?
Нет, взглянем прямо в глаза нашему прошедшему и смело скажем ему, что мало у нас с ним родственного, мало для нас дорогого в нем, коль скоро оно никогда не чувствовало своей униженной роли копииста и повторителя и коль скоро вплоть до самого нашего времени не раздавалось в нем голоса, призывавшего на собственную, своеобразную деятельность. Что это за наше искусство, в котором все чужое? И это от первой мысли и до последней черты исполнения. На всемирной выставке мы удивили не нашим искусством, а нашей готовностью быть послушным эхом всех и каждого. Что после того значит наше уменье, наша техника! Ведь и другие тоже не спали в Европе, ведь и они тоже делали успехи в уменье и технике, конечно, никак не «меньше нашего, только с тою разницею, что давно почувствовали не только постыдность, но бесполезность быть подражателями и ступили на свою собственную дорогу.
Оставим же наше чванливое уменье в стороне, взглянем, определим себе, что такое наша живопись в ряду других школ.
У нас в искусстве постоянно совершается один преудивительный факт. Мы привыкли всю жизнь бессознательно проводить в подражаниях и копиях и, странное дело, в то же время привыкли считать свои бледные повторения за создания самобытные, достойные счастливейших эпох искусства. Мы всегда думали, что наши художники прямые продолжатели и наследники Рафаэлей и Микель-Анджелов, Рубенсов и Рембрандтов и рядом с ними станут на страницах истории. Мы умели только приходить в восторг и восхищаться доморощенным, у нас не было еще привычки рассматривать и сравнивать. Никто не смел сказать себе и другим: „Куда нам до Рафаэлей и гениальности! Довольно с нас удержаться в ряду и со школами третьей руки!“ Куда! Нам все мерещилось удивительное наше величие и необычайные заслуги; нам и в голову не могло прийти, что где такое полное отсутствие творчества, как у нас, такая апатия, такое отсутствие потребности создавать свое, там надо почитать себя счастливым, если не станешь и еще ниже.
Всемирная выставка 1862 года послужила, наконец, к определению, с какою школой искусства у нас всего более сходства. Имев постоянно перед глазами одни только образцы, с которых копировали, мы с ними одними себя и сравнивали, в них искали точек опоры для самовосхваления и самовозвеличения. Но ведь и у других было время, когда они только подражали и копировали, когда думали только о том, как бы приблизиться к прежним итальянским мастерам. Все, с разных концов Европы, обращали глаза к одним и тем же идеалам, но результаты подражания выходили везде разные. Все ссылались на одного и того же Рафаэля, и все-таки товарищи по одному и тому же копированию не выходили похожими одни на других. Один характер получили испанцы, другой французы, третий фламандцы. Один факт подражательности и копирования не дает нам еще всей физиономии школы. Это еще только отрицательный признак. Какие же положительные признаки нашей школы, какой ее характер? На кого она всего больше похожа?