Посевы бури - [2]
В Риге социал-демократические кружки слились в единую организацию к августу 1899 года. Затем городские комитеты образовались в Либаве, Виндаве, Тальсене. Движение ширилось подобно пожару, и уже в 1902 году комитеты объединились в Латышскую социал-демократическую организацию. Политические эмигранты, в том числе и участники разгромленной охранкой группы «Новое течение», создали в Лондоне группу латышских социал-демократов и начали издавать журнал «Социал-демократе».
Перед отъездом в эмиграцию в Риге побывал Ленин. На конспиративной квартире в доме № 16 по Елизаветинской улице он встретился с латышскими революционерами. Несколько месяцев спустя в городе была создана искровская группа РСДРП, в которую вошли русские рабочие с рижских заводов и студенты Политехнического института. Среди ее активистов выдвинулись Колышкевич и Степан Шаумян, организовавший студенческий нелегальный кружок «Теоретик». К началу 1904 года эта на первых порах небольшая ячейка установила прочные связи с латышскими товарищами и стала быстро расти. А через несколько месяцев в тихом домике на левом берегу Двины снял квартиру профессиональный революционер Максим Максимович Литвинов. ЦК РСДРП назначил его своим уполномоченным по Северо-Западному краю.
Латышская газета в Петербурге опубликовала стихотворение Яна Райниса «Кто сдержит весны стремительный бег?!».
— Надо пустить пал, — подсказали министру Плеве знатоки из жандармского корпуса. — Знаете, ваше высокопревосходительство, как гасят встречным огнем лесной пожар? Потряс-с-ающее зрелище! Так пусть же пламя войны, победоносной, само собой разумеется, пожрет пожар революции.
Но и революция, и война еще созревали, готовились, были в пути. Латышский, календарь для девушек и хозяек ничего похожего на 1904 год не предусмотрел. Зато были отмечены все табельные дни и религиозные праздники. Грустные лирические стихи чередовались с рецептами варений, жарких и домашних наливок.
И вообще, если не считать отдельных неприятных эксцессов, жизнь была уютна и хороша. И не беда, что японцы двадцать четвертого января разорвали с Россией дипломатические отношения. В моду вошли длинные трены и широкие шляпы с отделкой «какаду». На катке под духовой оркестр все так же кружились нарядные пары. Юный подпоручик, припав на колено, зашнуровывал хохочущей барышне высокий белый ботинок. И глядел на нее снизу, как на икону. Звенели сверкающие коньки, взрывая на поворотах ледяные искры, до невероятности близко синели любимые глаза, потемневшие от смущения и счастья.
— Ну прошу вас, яункундзе,[1] же ву при, битте зеер, очень прошу!
А в номерах «Петербургской», где стерильная чистота, благоговейная тишина и европейский лоск, взлетала в узком бокале голубая студеная пена. Лампы были выключены, и дрожал за окном магнетический свет.
Незаметно подкрадывалась весна. Зеркальная витрина цветочного магазинчика на Гертрудинской туманилась оранжерейным дыханием пармских фиалок. Пошел лед по Западной Двине, пошел лед по Даугаве. Как тревожен и свеж был запах льдин в ночном морозном воздухе. Ледяной покров взрывался с пушечным гулом, и нечистые осколки, скрежеща, терлись друг об друга истонченными водой и солнцем кромками. За лабазами и складами Таможенной пристани шел лед. За уродливыми стенами из всевозможных досок, брусьев и горбыля, за холмами песка и угля, за бастионами из бочек, ящиков и мешков шуршала, всплескивала и бухала неподвластная человеку стихия. Чадили трубы. Перекрывая крики локомотивов, ревели гудки. Жирные от сажи черные дымы и желтый, окрашенный серным осадком пар, глотая мосты, стлались над самой рекой. Беспокойно метались очумелые чайки.
А в тридцати верстах, вдоль обледенелого пляжа курортного парадиза, речной лед таял тихо, съедаемый по ночам юго-западным ветром. Неподвижная Западная Аа блестела, как алюминиевый лист. В полыньях и вдоль береговой кромки уже играла нетерпеливая рыба, ожидая ольховых сережек и белого рябинового цвета, чтобы выметать в затонувших кустах икру. Река не бунтовала; женственно-ласковая, завлекающая, она сонно млела в расслабляющем огне коротких солнечных проблесков и не взламывала волглый набухший лед.
Излука в том месте, где река у станции Дуббельн подходит к железнодорожному полотну, очистилась первой, и зеленые сполохи корчились теперь в черном лаке недвижимой воды. Потом задул устойчивый зюйд-вест и нагнал низкие облака. Небо погасло, а темная вода померкла до неразличимости, слилась с невидимым ледяным полем низовьев, с пологим и таким же невидимым правобережьем реки.
Едва стало смеркаться, Ян Плиекшан, не слезая с кушетки, зажег керосиновую пятнадцатилинейную лампу «матадор» и, поправив шерстяной плед за спиной, потянулся взять новую четвертушку бумаги. Писал он, по обыкновению, полулежа, когда голова покоится на подушках, а дощечка для письма упирается в колени. Так было хорошо и удобно, а все, что требовалось, находилось под рукой. Справа висела полка с книгами, по левую руку стояла круглая тумбочка со стопкой писчей бумаги, очинёнными карандашами и колокольчиком на длинной эбеновой ручке. Исписанные листы он бросал рядом на шерстяное крестьянское одеяло с нехитрым латгальским узором. Когда требовалось перечесть или внести поправку, слепо шарил вокруг себя, не в силах отвести взор от своей дощечки, которую пронес не только через все переезды и перемены квартир, но и через обе ссылки. Каким удивительно красноречивым и теплым может быть дерево! Нежным и беззащитно-обреченным, как эта березка в кадке с водой, доверчиво раскрывшая в тепле почки, уронившая нежные нити соцветий. Знает ли она, что за стеклами веранды тьма и холод и сосны на дюнах стоят по колено в снегу? Наверное, знает, только ничего не может поделать с собой. Даже отсеченная от корней, она стремится любить; обнимая ветвями потолок, тянется к небу. Слепой инстинкт? Но что вообще есть инстинкт? Не маскируем ли мы словом собственное незнание, лень в мыслях, неумение почувствовать и понять? Вещими, мудрыми бывают деревья. Как Андумский жертвенный дуб в Синих горах близ «Корчмы поцелуев», как седая сосна на перекрестке Тукумской и Стендской дорог. Беден был бы мир без турайдских тисов и буков, впитавших весенний шум речной долины, солнечный туман и сладостную воду заколдованных родников. Пустой и сирой стала бы земля без старой задумчивой липы из детства. Латгальская милая липа, осыпающая на почерневшую замшелую дранку кровель пушистый медленный цвет. Но гордые дюнные сосны все-таки всех лучше. Они дышат умопомрачительной синью, у них кружатся головы под облаками, которые нагоняет морской ветер, каждой иголкой они ловят электрическое дыхание гроз. Даже сломанные бурей, сосны долго еще изливают в море сокровенный янтарный свет. Кровь, а не слезы… Потому бессмертны они и непобедимы. Суровые под свирепым истерзанным небом, они обрастают бронзовой патиной, упорные и розовые, как граниты в балтийских шхерах.
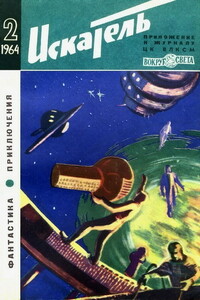
В этом номере «Искателя» со своими новыми произведениями выступают молодые писатели, работающие в фантастическом и приключенческом жанрах.На 1-й стр. обложки: рисунок художника Н. Гришина к повести В. Михайлова «Спутник „Шаг вперед“».На 2-й стр. обложки: иллюстрация П. Павлинова к рассказу В. Чичкова «Первые выстрелы Джоэля».На 4-й стр. обложки: «Ритм труда». Фото Р. Нагиева с фотовыставки «Семилетка в действии».
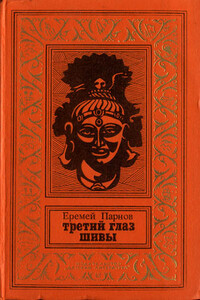
Фантастико-приключенческий роман «Третий глаз Шивы» посвящен работе советских криминалистов, которые на основе последних достижений современной науки прослеживают и разгадывают удивительную историю знаменитого индийского бриллианта, расшифровывают некогда таинственные свойства этого камня, получившего название «Третий глаз Шивы».
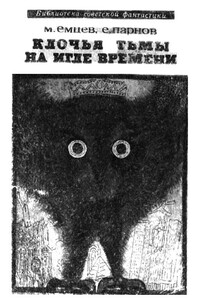
Емцев М., Парнов Е. Клочья тьмы на игле времени. Роман. — Москва. Молодая гвардия, 1970. - (Библиотека советской фантастики).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
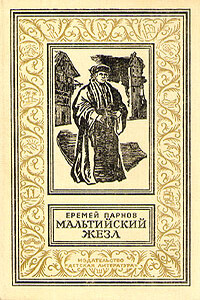
Приключенческий роман «Мальтийский жезл» — третья книга трилогии.Первые две: «Ларец Марии Медичи» и «Третий глаз Шивы». В романе рассказывается о проблемах современной науки и ее нравственных аспектах, о нелегкой работе криминалистов, и об удивительных тайнах, уходящих в глубь веков.
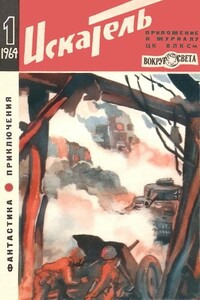
КОММУНИЗМ — ЕСТЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ, ПЛЮС ХИМИЗАЦИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.На 1-й стр. обложки: рисунок к документальной повести В. Степанова «Имена неизвестных героев».На 2-й стр. обложки: рисунок художника В. Чернецова к повести А. Леонхардта «Признание в ночи».На 4-й стр. обложки: «На перехват». Фото Г. Омельчука с фотовыставки «Семилетка в действии», 1963 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.
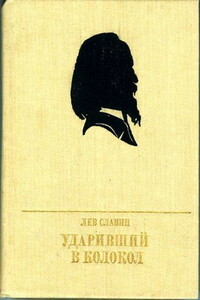
Творчество Льва Славина широко известно советскому и зарубежному читателю. Более чем за полувековую литературную деятельность им написано несколько романов, повестей, киносценариев, пьес, много рассказов и очерков. В разное время Л. Славиным опубликованы воспоминания, посвященные И. Бабелю, А. Платонову, Э. Багрицкому, Ю. Олеше, Вс. Иванову, М. Светлову. В серии «Пламенные революционеры» изданы повести Л. Славина «За нашу и вашу свободу» (1968 г.) — о Ярославе Домбровском и «Неистовый» (1973 г.) — о Виссарионе Белинском.

Валерий Осипов - автор многих произведений, посвященных проблемам современности. Его книги - «Неотправленное письмо», «Серебристый грибной дождь», «Рассказ в телеграммах», «Ускорение» и другие - хорошо знакомы читателям.Значительное место в творчестве писателя занимает историко-революционная тематика. В 1971 году в серии «Пламенные революционеры» вышла художественно-документальная повесть В. Осипова «Река рождается ручьями» об Александре Ульянове. Тепло встреченная читателями и прессой, книга выходит вторым изданием.

Армен Зурабов известен как прозаик и сценарист, автор книг рассказов и повестей «Каринка», «Клены», «Ожидание», пьесы «Лика», киноповести «Рождение». Эта книга Зурабова посвящена большевику-ленинцу, который вошел в историю под именем Камо (такова партийная кличка Семена Тер-Петросяна). Камо был человеком удивительного бесстрашия и мужества, для которого подвиг стал жизненной нормой. Писатель взял за основу последний год жизни своего героя — 1921-й, когда он готовился к поступлению в военную академию. Все события, описываемые в книге, как бы пропущены через восприятие главного героя, что дало возможность автору показать не только отважного и неуловимого Камо-боевика, борющегося с врагами революции, но и Камо, думающего о жизни страны, о Ленине, о совести.
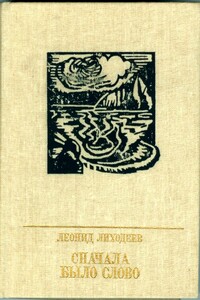
Леонид Лиходеев широко известен как острый, наблюдательный писатель. Его фельетоны, напечатанные в «Правде», «Известиях», «Литературной газете», в журналах, издавались отдельными книгами. Он — автор романов «Я и мой автомобиль», «Четыре главы из жизни Марьи Николаевны», «Семь пятниц», а также книг «Боги, которые лепят горшки», «Цена умиления», «Искусство это искусство», «Местное время», «Тайна электричества» и др. В последнее время писатель работает над исторической темой.Его повесть «Сначала было слово» рассказывает о Петре Заичневском, который написал знаменитую прокламацию «Молодая Россия».