Поручает Россия - [4]
Такого и быстрый в мыслях Петр не ожидал. Взглянул с вопросом. Помедлил. В то время царь горел мыслью: как можно больше русских людей отправить за рубежи российские для обучения необходимым державе ремеслам и наукам. Петр Андреевич выказал желание овладеть мореходным делом. Царь прошелся по палате, заложив руки за спину, пошевеливая тесно сплетенными пальцами, кашлянул.
Молчание царево затягивалось.
Петр Андреевич ждал решения.
Петровы каблуки стучали в дубовые плахи. Вот ведь как складывалось: против Петра звал стрельцов Софьин стольник Толстой, а ныне он от Петра ждал решения своей судьбы.
Царь остановился у окна, тень легла через всю палату. И Петр Андреевич подумал, что скажет сей миг Петр одно слово и тенью перечеркнет все его дальнейшие годы. Толстому стало сумно. Почувствовал: в виски молотками бьет кровь. Он поднял лицо, взглянул на царя. Что прочел Петр в его взгляде, о том он ни Толстому, ни кому иному не говорил, очевидным стало одно: задор он молодой перемог, отвердел губами, нахмурился и сказал раздельно:
— Добре. Поезжай.
И все. Не наставлял, как других отправляющихся за границы, не обещал ничего за успехи в науках и ремеслах и не грозил за знания плохие, кои выкажет по возвращении. Но и перечеркивать судьбу не стал. Такого греха на душу не захотел брать. Толстой запомнил: смотрел на него Петр, чуть наклонив голову к плечу, без укора, без раздражения и лишь раздумье читалось в глазах.
Возок тряхнуло. Филимон крикнул с досадой:
— Ну! Волчья сыть, шевели копытами! Толстой, отрываясь от дум, глянул в оконце. Подъезжали к Яузе.
Санная дорога напрямую через реку изломалась, и, хотя лед стоял, объезжать надобно было вкруговую. Филимон завернул коней, но Петр Андреевич все смотрел и смотрел на ледовую дорогу. Поднятая горбом над истаивающим льдом, желтая от навоза, она была хорошо видна с высокого берега. Тут и там дорогу перерезали трещины, напирали на нее клыкастые, изломанные льдины, дыбились, громоздились, и было очевидно, что еще день, другой — и дорога, преграждающая путь ледоходу, уйдет под воду, освобождая простор пробудившейся к жизни реке. Толстой, до рези в висках вглядывавшийся в оконце саней, неожиданно для себя понял, почему он так долго не может оторвать глаз от зыбящейся под напором весны дороги. В сознании ясно встало — это не дорога через речку Яузу, нет! Это Софьина дорога. Избитая, изломанная, с полыньями поперек хода, конской мочой залитая и навозом затолченная, та дорога, по которой веками Русь на карачках ползет, ломаными ногтями цепляясь и оставляя за собой алые маки кровавых пятен. И еще подумалось с душевной мукой — счастлив он, что выбрал иной путь.
Возок тряхнуло на ухабе, кучер взял правее, и Яузы не стало видно. Толстой отвернулся от оконца.
— Господи, — прошептал Петр Андреевич, — святые угодники, как воздать за то, что не оставили в замерзлом упрямстве! — Перекрестился и раз, и другой, и третий. И ему вспомнились итальянские солнечные дороги. Особый вкус кремнистой их пыли — пресный, щекочущий губы, но сладостный по воспоминаниям…
За изучение наук в Италии Петр Андреевич взялся так, что немало изумлял учителей въедливым умом и жаждой знаний. Бывал в библиотеках и госпиталях, в мануфактурах и академиях, изучил итальянский язык, познакомился с торговым делом и немало выказал способностей в знакомстве с искусствами, в коих итальянский народ был весьма сведущ. В Россию Толстой привез аттестаты, в которых говорилось: «…в познании ветров как на буссоле, яко и на карте и в познании инструментов корабельных, дерев, парусов и веревок есть искусный и до того способный». Были и другие слова: «…в дорогу морскую пустился, гольфу переезжал, на которой через два месяца целых был неустрашенный в бурливости морской и в фале фортуны морских не убоялся, во всем с непостоянными ветрами шибко боролся». К аттестатам крепились на шнурах тяжелые печати, выполненные сколь затейливо, столь и искусно. Но Петр все же счел более полезным для России использовать Толстого не как моряка, но как дипломата.
На то нашлись причины.
По возвращении в Москву Петра Андреевича призвали к царю. По обыкновению, Петр сидел вольно на простом стуле, закинув ногу на ногу. Белые нитяные чулки царя были забрызганы грязью. Он только что вернулся во дворец с артиллерийского поля, где ему представляли отлитые московскими мастерами пушки, и лицо его румянилось от морозного ветра, как это не часто бывало. Петр слушал Толстого и покачивал носком башмака. У рта собирались морщины. За два года, которые Петр Андреевич провел в Италии, царь заметно изменился: жестче стали губы, суровее глаза, и ежели раньше в разговоре он только взглядывал на собеседника и тут же отводил глаза в сторону, то ныне он смотрел в лицо сидящему напротив подолгу, не мигая, и только зрачки то расширялись, то сужались, словно дыша. Не прерывая Петра Андреевича, царь потянулся к лежащим на столе аттестатам, взял в руки один из свитков, развернул, шурша жесткой бумагой.
Петр Андреевич прервался на полуслове.
— Говори-говори, — взглянув поверх бумаги, сказал царь. Петр Андреевич продолжил рассказ.
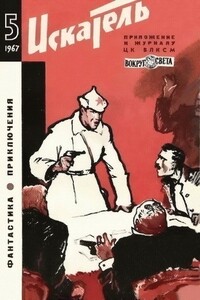
Этот номер журнала посвящен 50-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции.На 1-й стр. обложки — рисунок П. ПАВЛИНОВА к повести Юрия Федорова «Там, за холмом, — победа».На 3-й стр. обложки — рисунок Г. МАКАРОВА к рассказу К. Алтайского «Ракета».
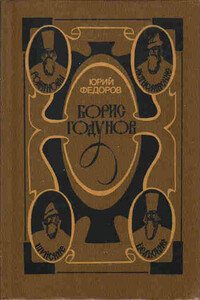
Высокохудожественное произведение эпохального характера рассказывает о времени правления Бориса Годунова (1598–1605), глубоко раскрывает перед читателями психологические образы представленных героев. Подробно описаны быт, нравы русского народа начала XVII века.
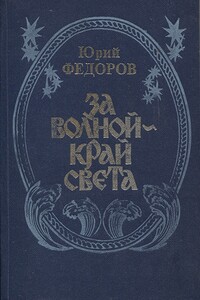
Книга «За волной — край света» — продолжение рассказа, начатого романом «Державы для…». В нем рассказывалось, как Григорий Шелихов вместе в купцами Иваном Голиковым и Иваном Лебедевым — Ласточкиным образовывают мореходную компанию и строят на острове Кадьяк, вблизи берегов Америки, крепость.
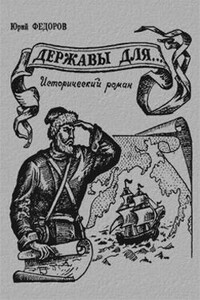
Русские мореплаватели и купцы давно стремились проникнуть к Тихому океану в поисках торговых путей на Восток. Еще в 1648 году экспедиция Семена Дежнева открыла пролив, разделяющий Азию и Америку. Однако из-за тумана самой Америки увидеть не удалось.Первыми русскими, которые оказались на тихоокеанском побережье Северной Америки были участники экспедиций Витуса Беринга и Алексея Чирикова в 1741 году на кораблях «Святой Петр» и «Святой Павел». Тогда были открыта Алеутские и Командорские острова, произведена первая разведка берегов Аляски.
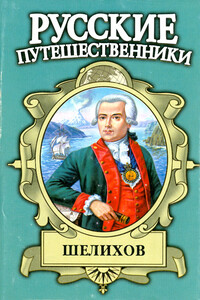
Имя Григория Ивановича Шелихова неразрывно связано с освоением русскими поселенцами курильских островов и Аляски. В 1777-1794 гг. он, совместно со своими компаньонами, снарядил около 10 экспедиций к берегам Северной Америки, считая при этом, что «открытые новые земли есть продолжение земли российской...» О жизни и приключениях первых жителей «Русской Америки» рассказывает новый роман известного писателя-историка Юрия Фёдорова.
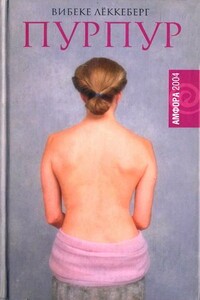
Роман известной норвежской писательницы Вибеке Лёккеберг (р. 1945) переносит нас в Италию XV века, ставшую второй родиной для норвежской красильщицы Анны, владевшей секретом изготовления драгоценного пурпура, который считался утраченным со времен захвата Константинополя войсками турецкого султана Махмуда Второго.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
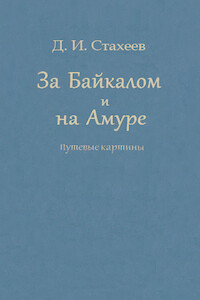
Книга посвящена путешествию автора по Забайкалью и Дальнему Востоку в 60-е годы XIX в. Внимательным взглядом всматривается писатель в окружающую жизнь, чтобы «составить понятие об амурских делах». Он знакомит нас с обычаями коренных обитателей этих мест — бурят и гольдов, в нескольких словах дает меткую характеристику местному купечеству, описывает быт и нравы купцов из Маньчжурии и Китая, рассказывает о нелегкой жизни амурских казаков-переселенцев. По отзывам современников Стахеев проявил себя недюжинным бытописателем.
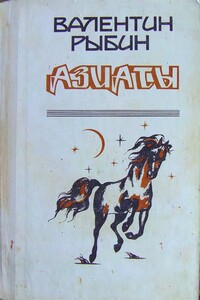
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
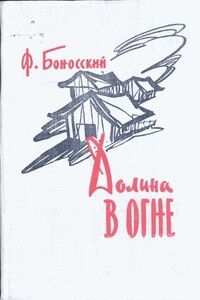
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.