Порченая - [31]
Пастух сидел на валуне, — в Нормандии возле ворот непременно кладут такие большие серые валуны. Одет он был в грубый шерстяной плащ, белый в оранжевую полоску, и казалось, будто накрыл себе плечи женской юбкой. Сидел неподвижно, словно тоже окаменел, и даже глаза у него стали как каменные. Ни дать ни взять мумия древнего кельта, которую только что вытащили из пещеры.
Жанна никак не могла миновать его, непременно должна была пройти мимо. Между ними оставалось шагов двадцать, и пастух наверняка уже заметил ее, но зеленоватые, похожие на рыбьи глаза, словно бы предназначенные для среды более плотной, чем воздух, остались неподвижными, по ним никак нельзя было угадать, что они видят, а что нет.
— Эй, пастух! — окликнула его Жанна. — Скажи, давно ли прошли после мессы люди? И если я пойду в Кло напрямик через Васильковый луг, нагоню я их или нет?
Пастух не ответил. Даже не шевельнулся, продолжая вглядываться куда-то вдаль. Жанна решила, что он не расслышал вопроса, и задала его еще раз, но громче.
— Оглох, что ли, пастух? — нетерпеливо прибавила она, привыкнув к повиновению нижестоящих: любое ее слово было для них не столько просьбой, сколько приказом.
— Оглох, но только для вас, — наконец отозвался пастух, сидя все так же неподвижно. — Для вас я глух, как ящерица, как камень, как вы и ваш муж были глухи к моей просьбе, хозяйка Ле Ардуэй! С чего вам вздумалось со мной заговаривать? Разве не вы прогнали меня? Вам нечего дать мне, мне нечего вам ответить! Смотрите, — продолжал он, вытянув длинную соломинку из сабо и переломив ее, — она сломана! И что же? Неужели вы думаете, что ветерок, который унес обломки, сделает ее опять целой?
Гнев рокотал в гортанном голосе пастуха. Сам того не подозревая, он совершил древний обряд, который совершали норманны, объявляя войну.
— Будет тебе, пастух! Стоит ли ворошить прошлое, — примирительно сказала Жанна, чувствуя себя не слишком уютно рядом с разгневанным человеком, держащим в руках дубинку из остролиста, которую, похоже, выломал из ограды. — Ответь мне на вопрос, и обещаю: будешь проходить через Кло и дома не будет мужа, положу тебе в котомку белый хлеб и добрый шмат сала.
— Бросьте свой хлеб и сало цепным собакам, — ответил пастух. — Не хлеб и не сало усмиряют гнев! Нет, не хлеб! У человека, который, пообедав, забывает оскорбление, вместо сердца зоб. Счеты я сведу позже, хозяйка Ле Ардуэй!
— Полегче с угрозами, пастух! — с не меньшей, а то и с большей угрозой окоротила его Жанна со свойственной ей решительностью.
— Знаю, знаю, хозяйка Ле Ардуэй, до вас, как до неба, не доберешься, — сказал пастух с кривой усмешкой, проницательно глядя на нее. — Однако вы тут не у себя на кухне, а возле Старой усадьбы на дурном перекрестке, где живая душа появится не раньше завтрешнего дня. Мало ли что мне взбредет в голову? — произнес он медленно, свирепо оскалившись и указав со стеклянным блеском в глазах на свою дубинку. — И взбрело, да не сделаю! Не хочу! — сказал он с напором. — Я ударю, меня ударят. Так что успокойтесь и бросьте камень, который подняли. Если я всего-навсего дерну вас за волосы, мне скажут, что голову оторвал, и засадят в тюрьму в Кутансе. Но есть месть куда более надежная. Время растит рога у быка, и удар их приносит смерть. Идите своей дорогой, — посоветовал он зловеще. — Месса, с которой вы возвращаетесь, запомнится вам надолго, хозяйка Ле Ардуэй!
Пастух поднялся с валуна и просвистел диковинную мелодию. К нему тотчас же подбежала собака — белая шерсть ее висела острыми сосульками, а на морде запечатлелось свойственное всем пастушеским собакам умное и печальное выражение. Она взглянула на хозяина и отправилась собирать коз, что разбрелись по двору.
Слишком гордая, чтобы отвечать пастуху, Жанна прошла мимо и свернула на Васильковый луг.
Что ей война, объявленная пастухом? В самое сердце поразили ее последние слова. Почему ей надолго запомнится месса? И что за дело до богослужения наверняка некрещеному бродяге-язычнику? Никто и никогда не видел пастухов в церкви, зато видели, к немалому смущению всех верующих, что они пасут овец на освященной земле кладбищ.
А месса и в самом деле была для Жанны памятной: незнакомый монах пробудил в ней чувства, до сей поры неведомые ее сильной и уравновешенной натуре. Слова пастуха странным образом намекали на ее встречу с тем, кто, судя по рассказу Нонон, стал жертвой Синих мундиров, а с Синими мундирами, доживи он до гражданской войны, непременно сражался бы ее отец, Лу де Горижар. Обещание пастуха невольно запало в душу Жанны и углубило уже полученное впечатление. Таинственное существо человек, потому и может случиться, что ничтожнейшее из обстоятельств — совпадение событий или слово — поразит его, удивление запомнится, подчинит его себе, завладеет целиком.
Жанна вернулась домой в небывалом смятении. Сумрачный монах и сумрачные угрозы пастуха мешались у нее в голове.
Однако привычная череда забот и дел уже выстроились перед ней, неся спасительное отвлечение. Жанна сбросила шубку, сабо с черными ремешками и по-хозяйски засновала по дому. Лицо ее было так ясно, так безмятежно, словно ничего необычного с ней не происходило.
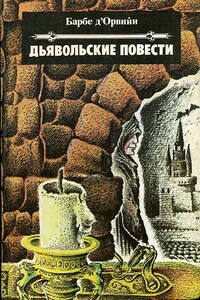
Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи».
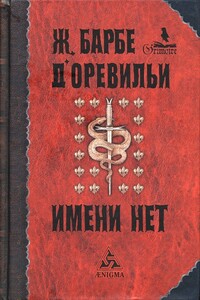
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.
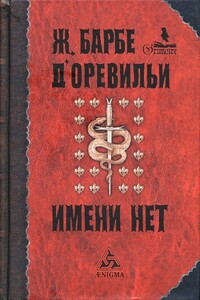
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.
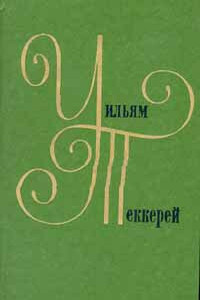
Сатирическая повесть, повествующая о мошенниках, убийцах, ворах, и направленная против ложной и лицемерной филантропии. В некоторых источниках названа первым романом автора.

Книга «Поизмятая роза, или Забавное похождение прекрасной Ангелики с двумя удальцами», вышедшая в свет в 1790 г., уже в XIX в. стала библиографической редкостью. В этом фривольном сочинении, переиздающемся впервые, описания фантастических подвигов рыцарей в землях Востока и Европы сочетаются с амурными приключениями героинь во главе с прелестной Ангеликой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
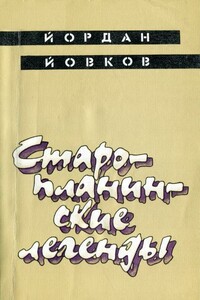
В книгу вошли лучшие рассказы замечательного мастера этого жанра Йордана Йовкова (1880—1937). Цикл «Старопланинские легенды», построенный на материале народных песен и преданий, воскрешает прошлое болгарского народа. Для всего творчества Йовкова характерно своеобразное переплетение трезвого реализма с романтической приподнятостью.

«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».
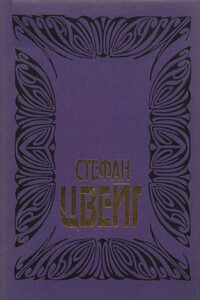
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881—1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В первый том вошел цикл новелл под общим названием «Цепь».
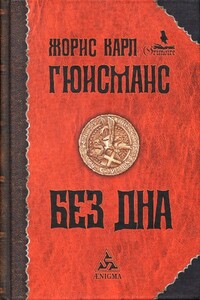
Новый, тщательно прокомментированный и свободный от досадных ошибок предыдущих изданий перевод знаменитого произведения французского писателя Ж. К. Гюисманса (1848–1907). «Без дна» (1891), первая, посвященная сатанизму часть известной трилогии, относится к «декадентскому» периоду в творчестве автора и является, по сути, романом в романе: с одной стороны, это едва ли не единственное в художественной литературе жизнеописание Жиля де Рэ, легендарного сподвижника Жанны д’Арк, после мученической смерти Орлеанской Девы предавшегося служению дьяволу, с другой — история некоего парижского литератора, который, разочаровавшись в пресловутых духовных ценностях европейской цивилизации конца XIX в., обращается к Средневековью и с горечью осознает, какая непреодолимая бездна разделяет эту сложную, противоречивую и тем не менее устремленную к небу эпоху и современный, лишенный каких-либо взлетов и падений, безнадежно «плоский» десакрализированный мир, разъедаемый язвой материализма, с его убогой плебейской верой в технический прогресс и «гуманистические идеалы»…
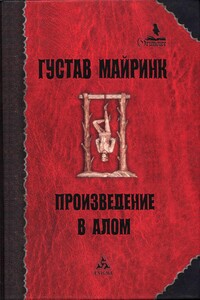
В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г.
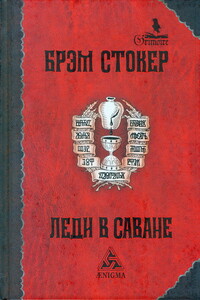
Вампир… Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX в., и кем бы ни был легендарный Носферату, а свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации…Издательство «Энигма» продолжает издание творческого наследия ирландского писателя Брэма Стокера и предлагает вниманию читателей никогда раньше не переводившийся на русский язык роман «Леди в саване» (1909), который весьма парадоксальным, «обманывающим горизонт читательского ожидания» образом развивает тему вампиризма, столь блистательно начатую автором в романе «Дракула» (1897).Пространный научный аппарат книги, наряду со статьями отечественных филологов, исследующих не только фольклорные влияния и литературные источники, вдохновившие Б.

«В начале был ужас» — так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — констатировал в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» один из самых странных писателей XX в., всеми своими произведениями подтверждая эту тезу.В состав сборника вошли признанные шедевры зловещих фантасмагорий Лавкрафта, в которых столь отчетливо и систематично прослеживаются некоторые доктринальные положения Золотой Зари, что у многих авторитетных комментаторов невольно возникала мысль о некой магической трансконтинентальной инспирации американского писателя тайным орденским знанием.