Понять - простить - [63]
По коридору протопотали легкие туфельки. Лека с Маей прошли, что-то напевая.
Игрунька оделся и вышел.
В столовой с навощенными полами и дорожками в полоску на большом столе пускал к потолку густые клубы пара самовар. Стол был заставлен булками, маслом, молоком, яйцами. Вчерашняя индейка и поросенок стояли на нем. Все были в сборе. Ждали Игруньку.
"Неужели опять есть?", — подумал Игрунька.
Перед Маей на большой тарелке лежал тонкий ломоть белой индейки и кусок черного хлеба. Она накладывала на него пласты сливочного масла.
Ее голубые глаза смеялись. Белые, ровные зубы готовы были кусать хлеб, на розовых щеках еще дремал сон.
— Игрунька, каймаку? Вы, наверно, никогда не ели его, — сказала Лека, из маленького глиняного горшочка доставая толстые желтоватые сливочные пенки.
— Дайте ему раньше поросенка, — томно сказала Евгения Романовна.
Игрунька ел поросенка, ел хлеб с маслом, яйца, каймак и без конца пил чай.
VI
После чая Ожогин повел гостей показать остатки своего завода. Гордился им Ожогин. По восемнадцать, по двадцать лошадей ежегодно в ремонт сдавали, и все по высшей оценке. Имел и медали на выставках, и премии от Управления ремонтов.
— Теперь, — говорил он, — ничего не осталось. Конюшни пустые. На варках — одна молодежь. Все съела война. Читаю я в газетах об опустошении Бельгии, о гибели города Лувена, — они хотя под огнем были, — а это разве не опустошение? Не гибель культуры?! Ведь я за лошадью весь свой век вековал, да отец, да дед, да прадед… Ожогинская лошадь еще во времена Александра Благословенного по всем ярмаркам славилась. А красоты какой! Не лошади были, а поэзия! С них картины писали! В Гатчине, во дворце, висит на лестнице картина англичанина Доу. Конная группа царской семьи императора Павла. В правом углу — голова вороной лошади. И говорить не надо: ожогинская лошадь.
По пыльным, заросшим сухой степной полынью дорожкам сада, по тополевой аллее прошли к деревянным воротам и вышли во двор. Две борзые, русские, косматые — белая сука и пестрый кобель — кинулись, улыбаясь острыми щипцами и обнажая длинные зубы, к хозяину. За ними, махая хвостами, бежали, повизгивая, пяток черно-желтых, низколапых костромских гончих.
— Папа, — сказал Котик, — охотиться будем?
— Не знаю, — ответил Ожогин. — Нынче всем свобода. Я думаю, в степу и зайцов не осталось.
Двор пыльным бугром, затянутым тонкими нитями степной травы, простирался за садом. Против калитки были широкие ворота, темной дырой открывавшиеся в сумрак манежа. Выводной глинобитный манеж под железной крышей со стеклянным колпаком смыкал две конюшни. В нем все было приготовлено к выводке. Стояли стулья, и старый смотритель Финоген, седой старик с маленькой сухой головкой и сурово нависшими над губой белыми усами, в длинном темно-зеленом сюртуке с шевронами, плоско висевшем на его худом теле, в высоких, выше колен, сапогах и с длинным бичом в руке, ожидал их. Конюхи, одетые в парадные сюртуки и черные суконные картузы с алыми кантами, протирали на конюшнях выводные уздечки.
В манеже ароматно пахло сухим степовым полынным сеном и лошадьми.
Ожогин сел в кресло, по правую руку посадил Игруньку, по левую — Котика. Рядом с Игрунькой села Мая, Лека села подле Котика.
Финоген покосился на барышень.
"Не девичье дело, — подумал он, — смотреть, как жеребцов выводят!.."
— Прикажете начинать? — сурово сказал он, снимая с головы черный форменный картуз.
— Да, выводи, — сказал Ожогин.
Он волновался, предвкушая удовольствие. Странные мысли томили его все эти дни. Всякий раз, как заходил в конюшню, думал почему-то: "В последний раз…"
И сейчас подумал: "В последний раз перед смертью. Эти-то, Керенские, разве удержат?.. Разве поймут?.."
Финоген подал знак кому-то, стоявшему в конюшне.
Сняли балясину, лежавшую поперек конюшенных дверей, и по манежу разлилось веселое, заливистое ржание. Для Ожогина этот победный крик лошади был лучше оперного пения. Он вздрогнул, нахмурился и покраснел. Хотел встать, глубже уселся в кресло и не утерпел — встал…
Навытяжку, с бичом в обеих руках, как бы провешивая им направление, куда вести лошадь, сурово нахмурившись, стоял прямой, как жердь, Финоген.
Два молодца на длинных белых развязках вели вишнево-гнедого жеребца. Высоко подняв маленькую сухую голову, жеребец раздул серые ноздри, выворачивая храпки, фукнул и заливисто, гордо заржал. Он шел за людьми танцующей легкой походкой и озирался темным, навыкате, глазом по сторонам.
Не доходя до Финогена, конюхи остановились, и лошадь свободно стала за ними, зная, что надо делать, когда ею любуются. Тонкие, в черных чулках, передние ноги она составила вместе. Задние, в белой шерсти, с розоватым копытом, широко расставила, чуть дальше отставив левую. Хвост откинула назад, и каскадом, как перо необыкновенной птицы, свесились с напруженной репицы черные блестящие волосы. Маленькие уши двигались, то настороживаясь, то кося на зрителей. Глаз смотрел то на конюхов, то на Ожогина. В медь отливали плечо и бока, в красное золото — широкий круп, чуть раздвоенный, с едва приметным темным ремнем.
— Жеребец Гангес, восемнадцати лет, — мягко, как «х» выговаривая «г» и торжественным, мерным голосом роняя слова в тишину манежа, говорил Финоген, и, казалось, лошадь напряженно слушала его, — Стрелецкого государственного завода, сын Горца и Ивы, внук Гомера, правнук Абдула, по прямой линии идет от Абеяна Серебряного и Яшмы, чистых ростопчинских кровей.
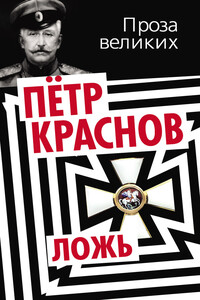
Автобиографический роман генерала Русской Императорской армии, атамана Всевеликого войска Донского Петра Николаевича Краснова «Ложь» (1936 г.), в котором он предрек свою судьбу и трагическую гибель!В хаосе революции белый генерал стал игрушкой в руках масонов, обманом был схвачен агентами НКВД и вывезен в Советскую страну для свершения жестокого показательного «правосудия»…Сразу после выхода в Париже роман «Ложь» был объявлен в СССР пропагандистским произведением и больше не издавался. Впервые выходит в России!

Краснов Петр Николаевич (1869–1947), профессиональный военный, прозаик, историк. За границей Краснов опубликовал много рассказов, мемуаров и историко-публицистических произведений.

Роман «С Ермаком на Сибирь» посвящен предыстории знаменитого похода, его причинам, а также самому героическому — без преувеличения! — деянию эпохи: открытию для России великого и богатейшего края.
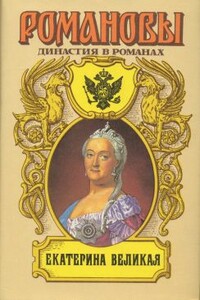
Екатерининская эпоха привлекала и привлекает к себе внимание историков, романистов, художников. В ней особенно ярко и причудливо переплелись характерные черты восемнадцатого столетия – широкие государственные замыслы и фаворитизм, расцвет наук и искусств и придворные интриги. Это было время изуверств Салтычихи и подвигов Румянцева и Суворова, время буйной стихии Пугачёвщины…В том вошли произведения:Bс. H. Иванов – Императрица ФикеП. Н. Краснов – Екатерина ВеликаяЕ. А. Сапиас – Петровские дни.

Роман замечательного русского писателя-реалиста, видного деятеля Белого движения и казачьего генерала П.Н.Краснова основан на реальных событиях — прежде всего, на преступлении, имевшем место в Киеве в 1911 году и всколыхнувшем общественную жизнь всей России. Он имеет черты как политического детектива, так и «женского» любовно-психологического романа. Рисуя офицерскую среду и жизнь различных слоев общества, писатель глубиной безпощадного анализа причин и следствий происходящего, широтой охвата действительности превосходит более известные нам произведения популярных писателей конца XIX-начала ХХ вв.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».