Польский всадник - [53]
Мне снится, что бабушка Леонор и соседки безудержно хохочут на площади Сан-Лоренсо, становясь все меньше и толще, в то время как их рты делаются все больше. Я просыпаюсь, но в темноте нет ничего. Именно эту пустоту видела перед собой женщина, замурованная в Доме с башнями. Я стою во тьме на чем-то очень высоком – на столе, – и моей груди касается стекло, такое же ледяное, как окна зимой. Я протягиваю руки, но ничего нет – ни вверху, ни внизу, – ни дня, ни ночи. Чья-то рука касается моей, и я слышу голоса матери и бабушки, разговаривающих с кем-то, будто я сплю, и произносящих непонятное и внушающее мне ужас слово «рентген». Теперь комнату заливает такой свет, что приходится закрыть глаза, и человек в белом халате, пахнущий не так, как мужчины в нашей семье, смотрит на меня: вокруг его головы повязана резиновая лента, а на лбу – круглое зеркало, в котором я вижу свой открытый рот. Я ощущаю холод в груди и временами чувствую жар и сильную, отчаянную жажду, не позволяющую мне даже оторвать язык от нёба и попросить воды. Моя мать держит меня на руках возле двери с замутненными стеклами, а одетая в белое женщина улыбается и разговаривает со мной, но я знаю, что это уловка: она берет меня с рук моей матери и уносит за дверь к врачу со стеклянной или стальной пластинкой на лбу, кажущейся мне огромным глазом.
На пустырях улицы Фуэнте-де-лас-Рисас мы с Феликсом роем сырую комковатую землю в поисках крылатых муравьев. Взлетая, они сверкают, как кусочки стекла при свете золотисто-голубого утра. Моя мать ведет меня за руку, я не знаю куда и умираю от страха. На витрине стоит игрушечная карета с четырьмя лошадьми и солдатом, держащим кнут. Я слышал рассказы о том, что до моего рождения в городе была телега для мертвых, запряженная лошадьми, которых возница бил кнутом, заставляя скакать галопом. Название этой телеги – Маканка – вселяло в меня еще больший страх, чем слова «чахоточный» или «больница». Я держу на руках маленького рыжего кота, игравшего со мной под столом с жаровней, в то время как взрослые разговаривали высоко над нашими головами, и незаметно для всех закрываю его в ящике, где лежат ножи, ложки и металлическое приспособление с красной ручкой, служащее для взбивания яиц, а мной используемое иногда как оружие из фильма. Мать тянет меня по очень длинному коридору, моя потная рука выскальзывает, и я останавливаюсь на двух плитках, задержав одну ногу на белой, а другую – на черной. Я не знаю, где нахожусь, но это не Махина и со мной должно что-то произойти. Во дворе дома, где свалены кучей колеса машин, мой друг Феликс ест горсти темной земли. У нее горький вкус, и она тает во рту, как плитка шоколада с изображением Девы Марии. Под цветными обертками я иногда нахожу картинки с приключениями или киноактерами, сильно пахнущие какао. Я открываю ящики, в них пусто. Заглядываю в другие, где лежат газеты с пожелтевшими листами. Мне нравится открывать ящики и заглядывать под сложенную одежду в поисках фотографий. Моя мать говорит, что этот седой человек, сидящий на ступеньке и гладящий по спине собаку, был ее дедом: как странно, она ведь не маленькая, а у нее тоже есть или был дед, так же как и у меня.
«Где же он сейчас?» – спрашиваю я, но она не отвечает.
Иногда взрослые молчат и не отвечают на вопросы. Я открываю ящик, и кот, ощетинившись бросается на меня, царапая руки и лицо, и перед моими глазами все становится красным, как тогда, когда я прячусь за красной шторой в комнате моих родителей и не отвечаю, если меня зовут. Я сижу, привязанный ремнями к креслу, и человек с зеркалом на лбу держит у моего рта тазик с кровью. Мы сидим с Феликсом на холодной сырой земле и едим ее, и я знаю, что скоро зажгутся огни, наступит вечер и мы услышим звук горна в казарме. Когда земля холодная и пахнет дымом, мой отец возвращается домой на муле, и значит, уже вечер. Иногда ночь бывает более безграничной и синей, а в воздухе и воде прудов светит луна. В синие ночи с насыпи незаметны дрожащие вдали огни, слышны голоса и музыка из летнего кинотеатра, на небе видны белая дорога и желтая луна, освещающая черепичные крыши и похожая на лицо. Я лежу в кровати и, открыв глаза, не могу понять, где нахожусь, а на ночном столике стоит игрушечная карета с четырьмя лошадьми и солдатом с кнутом. Рядом с собой я слышу голос: «Он приходит в себя от анестезии», – и чувствую, что засыпаю, думая об этом последнем слове, пропитанном запахом больницы и вкусом лекарства.
Когда я хочу спать, моя мать говорит: «Пойдем в кино белых простыней», – и я верю ей, представляя себе висящую перед нами простыню – белую и пустую, когда еще не погасили свет.
В кино все сидят тихо, стоит запах красной мягкой обивки кресел, семечек и ночного жасмина, и сначала на белой простыне ничего не видно. Потом на экране начинается день, тогда как вокруг царит летний вечер, а наверху неподвижно висит диск луны, похожий на лицо моей матери. Они говорят: «Операция… больница… санаторий… простата… пенициллин… рентгеновский снимок… анестезия…»
Ноги в черных чулках, принадлежащие матери Феликса, появляются перед нами, ее рука с траурной повязкой поднимает сына с земли и бьет его по лицу: открытый рот Феликса запачкан слюной, землей и слезами. Я постепенно начинаю узнавать и понимать произносимые взрослыми слова, хотя иногда они означают что-то невероятное: они говорят «убить время», и я воображаю сгорбленного человека, рассекающего ножом темноту, говорят «кинозвезда», и я вижу в темном кинотеатре свет, разрезающий экран по диагонали, как мимолетные звезды летней ночью; говорят «разбрасываться имуществом», и я представляю себе окно на нашей кухне на улице Фуэнте-де-лас-Рисас и своего отца, гигантского роста, срывающего решетку, поднимающего макет дома и выбрасывающего его на улицу, где он разбивался с грохотом стекла и черепицы. Взрослые разговаривают между собой, рассказывают что-то друг другу без остановки, мой дед Мануэль сажает меня на колени, рядом с огнем, снимает берет, и его лысина блестит на свету, как округлый бок кувшина. Он говорит: «Хочешь, расскажу тебе побасенку, в которой нет никакого толку?» Я отвечаю «да» или «нет», а он снова повторяет то же самое, пока не доводит меня до отчаяния: «Я не просил тебя ответить «да» или «нет», а хочешь ли ты послушать побасенку, в которой нет никакого толку?» Или пристально смотрит на меня, качает головой и задумчиво произносит: «Хорошо, так, значит, ты сторож дона Хуана Морено». И если я отвечал ему «нет», он повторяет: «Хорошо-хорошо, а я думал, ты сторож дона Хуана Морено».
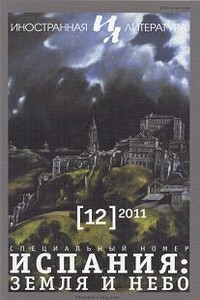
Тематический номер журнала ИЛ «Испания: земля и небо» 12/2011 открывается фрагментом романа «Сефард» Антонио Муньоса Молина (1956) — писателя, журналиста, искусствоведа, снискавшего у себя на родине широкую известность. Фрагмент представляет собой написанное на одном дыхании эссе, в центре которого — скитальческая участь испанских евреев-сефардов, изгнание вообще, чувство чужбины и психология чужака.Два рассказа того же автора, но в совершенно другом роде: в «Реке забвенья» мифическая Лета, протекая рядом — рукой подать — с загородным буржуазным домом, вторгается в жизнь его обитателей; и второй — «Комната с приведениями» — не менее диковинный.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.