Полночь: XXI век - [71]
Гроб, после того как нас одного за другим пригласили собраться перед ним, был поднят с заменявшей примитивный катафалк пары металлических козел, на которые его в начале службы водрузили перед лестницей на хоры, как раз под алтарем, и снова помещен в похоронном автобусе на приподнятую до середины платформу, затянутую серым плюшем и занавешенную выкроенными из пурпурного бархата сборчатыми занавесками, подложив под нее венки и охапки цветов, все разошлись по своим машинам, и так, автомобилизированными, мы и проследовали за нашей усопшей родственницей до ее последнего прибежища, странным конвоем, растянутым и скорым, в целом неразличимым для всякого в него не входящего, своего рода тайной процессией, вершащейся инкогнито в сравнении с тем, как все это делалось некогда, в эпоху (то есть почти век назад), когда эта ныне отошедшая родилась, а именно пешком, толпой, за влекомыми лошадьми траурными дрогами, при неспешном прохождении которых крестились женщины и обнажали голову мужчины.
Траурный кортеж уже несколько долгих минут как рассеялся по кладбищу, а я, в одиночку, в окружении вынутых из похоронного автобуса и затем временно выложенных на дорожку цветочных композиций, прозрачная обертка которых шебуршала под легким ветерком, все еще оставался перед фамильным склепом, только что под скрип древесины, шуршание поддерживающих его веревок и бряцание зацепленных за латунные ручки металлических крюков поглотившим гроб, не в состоянии — словно мне надо было до самого конца, то есть до последнего свидетельства ее существования, наполниться воспоминаниями об этом, так мною прежде любимом существе — отвести затуманенные слезами глаза от тяжелого надгробного камня из розового гранита, каковой четверица атлантов, обратившихся между делом в могильщиков, медленно перемещала поверх похрустывающего при вращении длинного стального цилиндра, помогая себе для этого испускавшими жалобные отрывистые похрустывания деревянными клиньями, а один из них, теперь уже скорее потешный кузнец, нежели могильщик, — ломом с расщепом на конце, чье регулярное позвякивание о бетонную облицовку гробницы, казалось, подхватило отзвучавший недавно в церкви похоронный звон, но с более высокими, более хрупкими, более отрывистыми и не такой глубины звуками, словно мало-помалу замирающее в своем бронзовом колокольце било.
Потом до моего рукава дотронулся брат. «Ну, пойдем же, — призвал он, — нечего здесь стоять, все кончено, семья собирается помянуть бабушку, ждем только тебя». И тогда-то, словно мы почувствовали, что оставить теперь ее здесь, на дне этой ямы, под этой гранитном плитой, которую, встав на колени и опершись на локти, из протянутого перед собой подобия пистолета со здоровенной трубкой из белого пластика в качестве дула грунтовал один из четверых могильщиков, означало навсегда покинуть нашу бабушку, разъединяя на веки вечные наши судьбы, которые пересеклись в это самое мгновение в последний раз, мы, заливаясь слезами, пали друг другу в объятия.
И вот сразу пополудни все наше семейство очутилось на холмах Шантюрга, в тени растущих в саду одного из моих дядей миндальных деревьев, вокруг длинного деревянного стола, накрытого белой бумажной скатертью, которую удерживали металлические зажимы. Скорбь и жара — поскольку стояло время отпусков и, хотя нас отчасти и предохраняла от того, чтобы расплавиться, листва, солнце пронизывало каждую нить наших темных одежд, делая их обжигающими, — подавили нас всех, так что мы разговаривали мало, вполголоса.
Потом было подано прохладное розовое вино, от него быстро разогрелись умы, раскраснелись щеки, покрылись капельками пота лбы и виски. Мы не замедлили скинуть куртки, расстегнуть пуговицы рубашек и блузок, распахнуть воротники, засучить рукава. Мало-помалу исчезло всякое подобие торжественности, послышались громкие голоса, потом смех, и, когда ее подали, все дружно налегли на еду. После кофе и рюмки дижестива из футляров были извлечены шары для игры в петанк[30], все разбились на пары. Я, однако же, отказался войти в одну из них и взял у родителей машину.
Я пересек Монферран и проехал по его предместьям до квартала Ла Плен, где и припарковался у бабушкиного с дедушкой коттеджа. Как будто в музее, то есть с тем же, пусть мы и знаем о его тщетности, старанием внимательно осмотреть все вплоть до мельчайших деталей, я в последний раз зашел в каждую комнату, медленно передвигаясь по свежей, но уже тронутой затхлостью полумгле, сгущавшейся за запертыми ставнями и закрытыми окнами, и почти не нарушая мертвенный покой своими шагами, лишь время от времени под ногами поскрипывала дощечка паркета или хрустел иссохший торакс дохлой мухи.
Потом — ибо только для этого я сюда и пришел — я придвинул плетеный стул к одной из стен супружеской комнаты, взобрался на него, чтобы дотянуться рукой до свадебного портрета бабушки с дедушкой, висевшего здесь под стеклом, в примитивной рамке из темного дерева шестидесяти сантиметров в длину и тридцати в ширину, испокон веку (на погрудной черно-белой фотографии они были изображены бок о бок, когда им было лет двадцать: справа бабушка, овальное лицо под разделенной боковым пробором довольно-таки пышной прической, чей объем скорее всего поддерживают на затылке несколько шпилек, уже потом давая ей распуститься сзади чуть вьющимися прядями, широко раскрытые глаза почти испуганы (не могу удержаться и, с тех пор как в один прекрасный день, изрядно выпив, он собственными устами поведал мне, что в первую брачную ночь, а потом и в три или четыре следующие, она отказала своему супругу, приписываю эту боязнь перспективе лишения девственности) слегка вздернутый нос, довольно-таки полные и — вероятно, все по той же причине — словно судорожно сжатые над горизонтальной ямочкой на подбородке губы; слева дедушка, квадратное лицо под зачесанными назад короткими густыми волосами, подбритыми на висках, низкий лоб, густые брови, маленькие глазки, широкий нос, тонкие, растянутые губы, гордо выставлен слегка выдающийся вперед подбородок; одеты: она — в накидку цвета морской волны, под широким воротником которой повязан пестрый платок, он — в куртку того же синего цвета, белую рубашку с черным галстуком в крошечный желтый горошек; на самом деле, искусственная одежда, умело подрисованная пастелью портретистом, как и каштановые отсветы на их волосах и глазах, розоватые рефлексы на губах и скулах, а также небесно-голубой фон, на котором они оба выделяются), и снял портрет со стены.
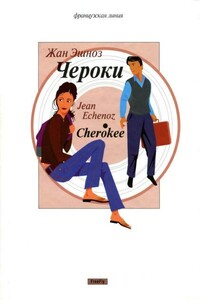
«Чероки» это роман в ритме джаза — безудержный, завораживающий, головокружительный, пленяющий полнозвучностью каждой детали и абсолютной непредсказуемостью интриги.Жорж Шав довольствовался малым, заполняя свое существование барами, кинотеатрами, поездками в предместья, визитами к друзьям и визитами друзей, романами, импровизированными сиестами, случайными приключениями, и, не случись Вероники, эта ситуация, почти вышедшая из-под его контроля, могла бы безнадежно затянуться.
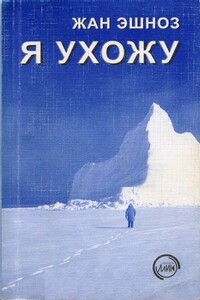
Феррер, владелец картинной галереи в Париже, узнает, что много лет назад на Крайнем Севере потерпела бедствие шхуна «Нешилик», на борту которой находилась ценнейшая коллекция предметов древнего эскимосского искусства. Он решает отправиться на поиски сокровища, тем более, что его личная жизнь потерпела крах: он недавно разошелся с женой. Находки и потери — вот лейтмотив этого детективного романа, где герой то обретает, то теряет сокровища и женщин, скитаясь между Парижем, ледяным Севером и жаркой Испанией.

Равель был низкорослым и щуплым, как жокей — или как Фолкнер. Он весил так мало, что в 1914 году, решив пойти воевать, попытался убедить военные власти, что это идеальный вес для авиатора. Его отказались мобилизовать в этот род войск, как, впрочем, отказались вообще брать в армию, но, поскольку он стоял на своем, его на полном серьезе определили в автомобильный взвод, водителем тяжелого грузовика. И однажды по Елисейским Полям с грохотом проследовал огромный военный грузовик, в кабине которого виднелась тщедушная фигурка, утонувшая в слишком просторной голубой шинели…Жан Эшноз (р.
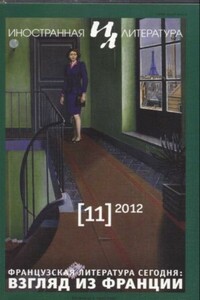
Сюжет романа представляет собой достаточно вольное изложение биографии Николы Теслы (1856–1943), уроженца Австро-Венгрии, гражданина США и великого изобретателя. О том, как и почему автор сильно беллетризовал биографию ученого, писатель рассказывает в интервью, напечатанном здесь же в переводе Юлии Романовой.

Первый роман неподражаемого Жана Эшноза, блестящего стилиста, лауреата Гонкуровской премии, одного из самых известных французских писателей современности, впервые выходит на русском языке. Признанный экспериментатор, достойный продолжатель лучших традиций «нового романа», Эшноз мастерски жонглирует самыми разными формами и жанрами, пародируя расхожие штампы «литературы массового потребления». Все эти черты, характерные для творчества мастера, отличают и «Гринвичский меридиан», виртуозно построенный на шпионской интриге с множеством сюжетных линий и неожиданных поворотов.

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…
