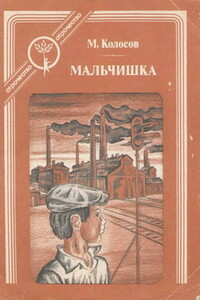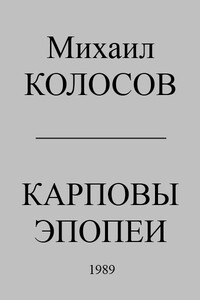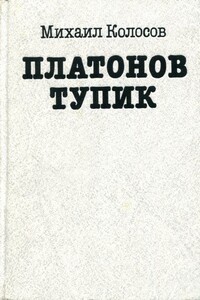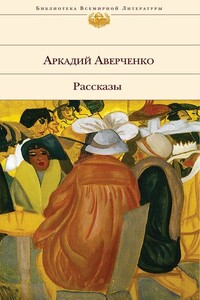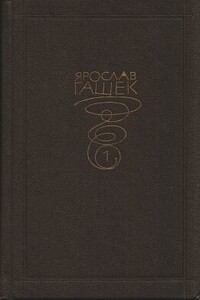— Откуда знаете, что я роман пишу? — приятно удивился Неваляйкин.
— О, земля слухом полнится! Вы ведь писатель известный, и такой талант не может молчать, бездействовать, — сказал гость. — Милости просим! У нас вилла есть на самом берегу. Поживете — сколько захотите. И сауна рядом.
— И сауна? — переспросил Неваляйкин.
— И сауна, да. Настоящая!
— Это заманчиво, черт возьми! Так что там у вас? — он поманил к себе заявку, которую гость все еще держал в руке и не решался вручить ему. И когда тот наконец положил бумагу на стол, Неваляйкин дерябнул свободно и легко в левом углу: «Согласен на увеличение тиража. Книга хорошая». И сказал:
— А вдруг приеду?
— Конечно, приезжайте!
Ночью Неваляйкин долго не мог уснуть, размечтался: «Ах, какие добрые, чуткие люди! Знают, что человеку нужно, черт возьми, жить хочется от общения с такими людьми! Брошу работу, перейду опять на творчество — засяду за роман! Ух, рвану! С этой чертовой работой действительно ничего путного не напишешь. Надо дерзать! А чего бояться? С голоду помру, что ли? Месяц-два поживу у этого Громыхалы в тайге, у этого Гришки Распутина, черта рыжего. Потом на месячишко махну на юг… А после можно и в сауну… Хорошо!»
И Неваляйкин подал заявление в связи с переходом на творческую работу. К нему отнеслись с пониманием — освободили.
В первый же свободный день Неваляйкин накатал письма своим друзьям-доброхотам о том, что он готов воспользоваться их настойчивыми и искренними приглашениями.
Ответов ждал долго. Первым отозвался таежник — Громыхулин, он писал: в этом году у него такая запарка, что он не сможет уделить Неваляйкину должного внимания, и поэтому просил отодвинуть его визит хотя бы на годик… Южанин написал, что он теперь работает в другой системе и прежних возможностей у него нет… Западнянин сообщил о своей длительной зарубежной командировке…
Прочитал все это Неваляйкин и минут пять стоял с отвисшей челюстью. А потом выскочил на улицу, поймал такси и помчался в издательство, чтобы повернуть колесо судьбы своей вспять. Но там на его месте уже сидел какой-то Наливайкин, который лениво прогнусавил Эразму:
— Прием авторов по средам. Приходите через неделю.
А когда Неваляйкин хотел сказать ему, что он пришел не как автор, у того, будто патефонная иголка соскочила на испорченную борозду, монотонно зачастило:
— Я занят… Я занят… Я занят…
Плюнул Неваляйкин и поплелся в ЦДЛ «зализывать раны».
Мука первая,
или
Мобилизация ресурсов
Неваляйкин вытолкнул ногой из-под кровати огромный, как пульмановский вагон, желтый, крокодиловой кожи портфель, водрузил его на середине комнаты и, словно Самсон льву, двумя руками разодрал ему пасть. Как в жертвенный котел опустил в него увесистую рукопись и отряхнул над ней прах с рук своих. Потом снял с полки тяжелый и гладкий, как булыжник, моржовый клык, похожий на рог годовалого бычка, сдул с него пыль, хотел было тоже опустить в портфель, но раздумал.
— Мивочка! — позвал он жену. Мне нужна ковобочка, жевательно иностванная. Из-под кавготок? О, чудесно! И женщина нарисована и две ярких буквы R и S. Чудесно! — Неваляйкин вложил клык в коробку и опустил в портфель. — Так, директриса готова. — Он выдвинул ящик своего стола, извлек оттуда растопыренное многочисленными ответвлениями черное корневище, сказал: — «Спрут». Это, помнишь, на день моего рождения дурак Косорылов принес. Пригодився: мы этим «спрутом» гвавного опутаем, он собирает всякую чепуху. — Засунув «спрута» в портфель, Неваляйкин подошел к туалетному столику жены: — Мивочка, тебе придется расстаться с этой вещицей, — он подбросил на ладони ее перстень. Жена плаксиво сморщила лицо. — Не огорчайся, Мивочка. Тем бовее что это дешевка, обыкновенная морская галька, поквытая эмалью. Сдевана, правда, искусно… Не огорчайся! Выйдет книжка — отдарю тебе сторицей. А этот отдам своей редакторше, этой дувочке, каракатице, старой кокетке с дувацким именем Эжени. Она уписается от радости.
— Ну зачем ты так?.. — засмущалась жена. — А что же ты забыл Стамескину — заведующую отделом?
— Перебьется-обойдется! — махнул рукой Неваляйкин. — Она влюблена в меня, как кошка. Пообещаю ей книжку с автографом — будет счастлива.
Он сунул перстень в карман, сел, как перед дальней дорогой, в кресло, откинул на спинку кудлатую голову, смежил устало глаза, словно молился мысленно. Короткая и толстая, как комель столетнего дуба, шея его напряглась, массивная, квадратная челюсть отвисла под собственной тяжестью.
Посидел, быстро вскочил, защелкнул портфель, поцеловал жену в шею:
— Все! Потопал! Ругай тут меня.
Мука вторая,
или
Прорыв
Широко улыбаясь, Неваляйкин вошел в приемную директора издательства. Не дав опомниться секретарше — лупоглазой девице на выданье, которая млела от любого комплимента, воскликнул:
— Ниночка, ты, как всегда, преквасна! А увыбка — само очарование! — он извлек из кармана шоколадную медальку, положил перед ней: — Тебе! Медаль! За красоту!
Ниночка зарделась, засмущалась, заулыбалась счастливо.
— Начальство на месте?
— Да… — выдохнула Ниночка. — Проходите…
Мука третья,
или
Атака
Сделав улыбку как можно шире, Неваляйкин открыл дверь в кабинет, быстро и решительно прошел вперед, грохнул свой портфель на приставной столик, отчего с портфеля взлетело облако пыли и припудрило довольно плотным слоем лакированную поверхность. Распростер огромные руки и двинулся всей своей массой на директрису: