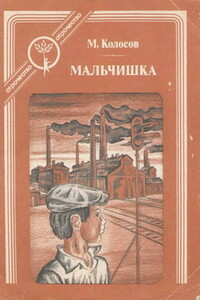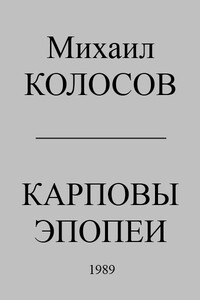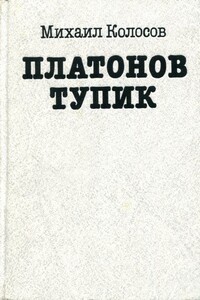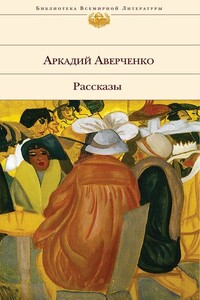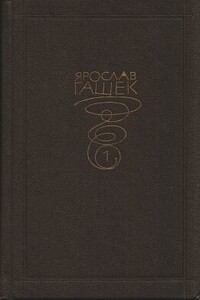— Пожалуй… — кивнул Косорылов. — А вдруг и при должности раскритикуют?.. Да ниспровергнут?
— Не посмеют!.. А со временем имя примелькается, укоренится, ниспровергать будет уже неудобно.
— Там выступать часто надо. А по выступлению Петр Первый тупость оратора определял, — пьяно засмеялся Косорылов.
— То когда было! — отмахнулся Неваляйкин. — Нет, дружище, ты все-таки недооцениваешь ситуацию. Ты смотри, что делается: сейчас требуют развивать критику. А на ком ее развивать? А-а!.. Вот то-то и оно-то! Видал, мою последнюю вещь уже начали щипать. Недостатки уже стали находить: натурализм какой-то, видите ли, нашли…
— Чепуха!.. — ухмыльнулся Косорылов. — А комплиментов сколько перед этим набросали?
— Эх, наивный человек ты, как я погляжу! Комплименты! Это же маскировка! Нет, ты недооцениваешь ситуацию. А зря. А я вижу: против нас зреет заговор. Тебя слегка покритиковали, меня — чуть покрепче. Сначала слегка, а потом и вразнос. Мне издательство на доработку новую рукопись вернуло. А?.. Когда это было такое?! И вообще стало трудно пробиваться. Молодые всюду поперли косяком, как ночные бабочки на свет, Носятся с ними…
— Среди них есть очень даже талантливые. И немало. Учти, — поднял палец Косорылов.
— Тем более надо спасаться… А куда? Главное спасение сейчас я вижу в должности. И чем выше, тем безопаснее. Вот я и толкую тебе: срочно нужна должность. Хочу должность! — Неваляйкин схватил Косорылова за галстук, притянул к себе: — Слушай, сейчас начинается выборная кампания, ты там в активе числишься, выдвинь меня куда-нибудь?
— Куда? В творческое бюро?..
— Нет, — Неваляйкин с ходу отверг такое предложение, закрутил головой. — Мало. Там работать нужно, а чести мало. Мне б такую должность, чтобы работы минимум, а чести максимум. По журнальчику бы нам заполучить! Это вещь! Я бы тебя напечатал, ты — меня.
— Губа не дура! О журнальчике сам всю жизнь мечтаю, да где их набрать столько. «Свободных нету мест» — как поется в одной песенке. Тут для начала хотя бы комиссию какую заполучить.
— Какую?
— Ну, хотя бы приемную, что ли…
— Какая?
— Ну, приемная…
— Не! Мало! Там тоже работать надо — книжки вступающих читать. А заинтересованы во мне будут только желающие вступить в Союз. А как вступит — и все, больше я ему не нужен. Нет. Мне такую — чтоб власть в руках или чтобы распределять что-нибудь. Понял?
— Есть жилищная комиссия…
Неваляйкин задумался.
— Это уже что-то: квартиры распределять! Но ведь это очень хлопотное дело? Да и потом, насколько мне известно, видные критики все уже с квартирами, вряд ли кто из них пойдет ко мне просить жилье. Нет ли чего-нибудь полегче и посолиднее?
— Чтобы сами золотые рыбки к тебе на поклон приходили? — съехидничал Косорылов, разлепив узкие щелочки глаз. — И саму рыбку хочешь заарканить?
— Чш-ш-ш, — приложил Неваляйкин палец к губам. — Ну, зачем же так громко?
— Так, брат, ты рискуешь остаться у разбитого корыта…
— Ладно, ладно… — Неваляйкин обернулся, щелчком подозвал официантку: — Фенечка, — он положил руку ей на поясницу, — еще графинчик, пожалуйста. — И опять лег грудью на стол, подался к Косорылову: — Ты пойми: мы должны поддерживать друг друга. Литература-то на ком держится? А? Вот то-то и оно-то. Если не ты да не я, так кто же? Должность нужна, должность! Выдвигай хоть куда, только побыстрее. Чую — подбираются! Должность нужна! Хочу должность! И тебе тоже надо пробиваться. Давай друг друга выдвигать: ты — меня, а я — тебя.
— Давай! — согласился Косорылов. — Давай, наливай. Разве я не понимаю. За успехи!
— За наши успехи, — уточнил Неваляйкин и заговорщически подмигнул: — За должность!
В службе Неваляйкину поначалу везло: не прошло и года, как он стал уже заведующим редакцией. Обрадовался, прикинул и решил в уме несложную задачку, по которой выходило, что не далее как годика через три сидеть ему в кресле главного. Математика — наука серьезная, он верил в нее и уже так и нес себя в этом направлении.
Однако наука наукой, а фортуна крутит свое. Четвертый год был на исходе, а у Неваляйкина никакого движения, как в степном соленом озере. О нем будто напрочь забыли. И бедняга затосковал. Почувствовал себя усталым, работа опротивела, как назойливая нелюбимая женщина.
Особенно тоска стала одолевать его, когда он трезвым оком взглянул вверх на служебную лестницу и не увидел там ни свободных ступенек, ни людей, которые могли бы протянуть ему оттуда руку. Не увидел ничего такого на этой лестнице и загрустил. Ведь он рвался к должности, чтобы преуспеть в творческих делах. Но почему-то не вышло. Не прогремел. А вокруг творилось что-то непонятное: и среди неработающих писателей было немало настоящих, и среди должностных — уйма бездарей.
«Освободиться бы от этой каторги да засесть по-настоящему за стол! Ух, напишу романею! Вот тогда они узнают!..»
Кто «они», Неваляйкин и сам толком не представлял, — все, кто с ним работал и работает, начальники и подчиненные, особенно те, кто его не замечает. Критики — в первую очередь. Все!
Что они «узнают» — тут у него представления были более четкие: они узнают, какой он н е о б ы к н о в е н н ы й человек и писатель. И тогда их всех, особенно тех, кто недооценивал его, всех до единого съест собственная совесть. А у кого ее нет, тот умрет от зависти. И неудивительно: своим романом он докажет всем, какой он талант, какой мастер, как он широко и перспективно мыслит!..