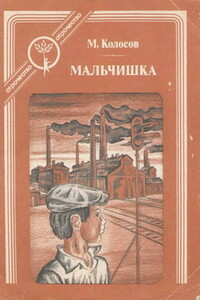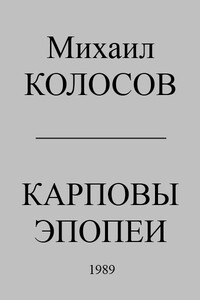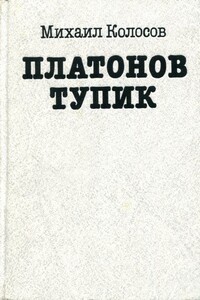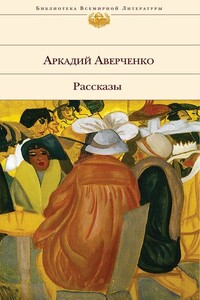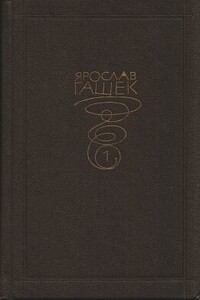— Видите ли, дорогой Эразм Иванович… Я должен сразу сказать, что у меня к вам нет никакой предвзятости, но надо было позвонить, когда я готовился к докладу, как это делали другие. А кроме того, я просто физически не мог перечислить всех…
— Я не говорю о всех, — прервал его Неваляйкин. — Я говорю о себе: почему мое имя замалчивается? Я что, хуже Черногузова, который, кстати, дважды фигуряет в вашем докладе? Или, может, он ваш родич?
Собеседник помолчал и снова заговорил так же ровно и усыпляюще, как и прежде:
— Дослушайте меня, пожалуйста, Эразм Иванович, коль скоро вы мне позвонили. Родичей, как вы изволили выразиться, среди писателей у меня нет. А Черногузов конечно же не лучше вас…
— Так в чем же дело?
— Наберитесь терпения, Эразм Иванович. Наша организация большая, и, естественно, обо всех, повторяю — обо всех, хороших писателях рассказать невозможно. Поэтому, чтобы задействовать как можно больше имен, мы договорились: одних упомянуть на секционных собраниях, других — на общем. О вас говорилось на секции. Верно?
— А о Черногузове и на общем, и на секции?
— Дался вам этот Черногузов… Но вы меня не дослушали. К тому же форма моего доклада построена так, что она не позволяла вставить в него ваше имя, — рокотал докладчик. — Я ведь построил свой доклад, если вы заметили, по возрастному принципу: сначала я говорил о двадцатилетних, потом о тридцатилетних, о сорокалетних и, наконец, о наших корифеях, о наших, так сказать, старейшинах. Согласитесь, что стариков обижать не очень-то гуманно?
— Странно. А пятидесятилетних куда же?
— Мне просто режим времени не позволил рассказать об этом большом и, я бы сказал, плодотворном отряде литераторов. И в этом, как я теперь понимаю, была моя ошибка. Кстати, вы далеко не первый звоните мне по этому поводу, вы уже двухсотшестнадцатый. Но я исправлю свою ошибку, и вы, пожалуйста, не беспокойтесь: ваше имя займет достойное ему место.
— Нет, ждать несколько лет до следующего собрания я не намерен. Я буду жаловаться!
— Зачем же жаловаться? И ждать не надо, ошибка будет исправлена теперь.
— Каким же это образом? Ни догнать, ни перегнать время, а тем более повернуть его вспять еще никому не удавалось.
— Я найду способ. А вы, Эразм Иванович, пожалуйста, успокойтесь, и жаловаться никуда не надо. Всего доброго.
Неваляйкин положил трубку, вытер со лба пот.
— Ну, слыхал? Утешил: он исправит ошибку. Наверное, в стенограмму допишет. Очень мне это нужно!
— И то хорошо: для истории останешься.
— Нужна мне твоя история! — вскричал Неваляйкин. — Я хочу жить сейчас, теперь! Если я буду при жизни греметь, будь уверен, и до истории кое-что докатится. От одного книги, от другого жалобы, от третьего анонимки, от кого-то скандальные анекдоты, а от кого-то даже стоптанные тапочки. История сама во всем разберется, она лучше нас знает, кто ей нужен, и мне до нее дела нет. Если бы все думали об истории, разве была бы такая давка у кормушек? Кое-кто постеснялся бы!
Однако как ни бесновался Неваляйкин, а после разговора с докладчиком он стал уже совсем иным — он будто вырос в своих собственных глазах и смотрел на всех победителем: человек выпустил пар, и ему полегчало.
А через три дня я получил от него пухлый пакет и в нем «Литературный вестник» с отчетом о собрании. Основной доклад печатался полностью, и был он похож скорее на длинный поминальник, чем на серьезный разговор о делах: от обилия имен рябило в глазах.
В абзаце, который начинался словами: «Нынче нельзя представить наш литературный процесс и без таких имен, как…» — все эти слова и фамилия Неваляйкина были жирно подчеркнуты красным фломастером, и от них тянулись длинные вожжи на чистое поле, где красовалась игривая приписка:
«Читай и завидуй! Правда восторжествовала! Так-то! Э. Нев.».
Неваляйкин сидел за столом, тяжело опустив голову над нетронутой вырезкой, чмокал недовольно мясистыми губами, словно жевал что-то невкусное и несъедобное. Угрюмо поводил глазами по заставленному закусками столу, машинально налил в стопки, обратился к соседу напротив — своему закадычному другу Косорылову:
— Читал?
— Ну… — качнулся Косорылов. Лицо его от выпитого уже было багровым, как флотский борщ, а узкие глазки совсем слиплись.
— Слушай, дружище! — подался к нему Неваляйкин. — Очнись: ты недооцениваешь ситуации! Ты лауреат какой-то там премии, и то не пощадили — в последней рецензии уже появилось: «Однако…» Замечание сделали. А я голенький, совсем ничем не прикрытый, колхозная премия — это не щит, — так мне целый абзац закатили после этого «однако»: «К сожалению, роман непомерно растянут, изобилует натуралистическими сценами…» Видал?
— Чепуха! — Косорылов выпил, вытер рукой рот. — Я этому критику морду набью!
— Не то, — отмел такую меру Неваляйкин. — Несерьезно это. Мы должны быть вооружены властью. Понимаешь — властью!
— Ну что ж!.. Вооружимся!
— Властью! Должностью! — втолковывал ему Неваляйкин. — Тогда мы сможем спокойно творить и… к премиям поближе будем. А иначе добра не видать: нас, талантливых писателей, подавят как лягушат на асфальте. Нужна должность для прикрытия. Понял?