Поэзия Приморских Альп. Рассказы И. А. Бунина 1920-х годов [заметки]
1
Подробно об этом периоде в биографии писателя см.: Бабореко А. Бунин: Жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 260–227.
2
Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология. О рассказе «В ночном море» //Концепция и смысл: Сб. статей в честь 60-летия проф. В. М. Марковича. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1996. С. 285.
3
В этом смысле показателен рассказ «О дураке Емеле, какой вышел всех умнее» (1921). Бунин неизменно читал «Емелю» при публичных выступлениях.
4
К примеру, основная линия сюжета – любовная драма Мити и Кати – возникает далеко не сразу в процессе написания «Митиной любви», два самостоятельных отрывка «Апрель» и «Дождь» (РГАЛИ, фонд 44, дело № 60, опись 2) свидетельствуют о том, что повесть начиналась со сцен и пейзажей финала (см. об этом в комментарии О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой: Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1966. Т. 5. С. 520).
5
Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 145.
6
Понятие «лирический герой» (в некотором смысле коррелят лирического «я») нередко служит инструментом для полного абстрагирования поэтического «я» от «я» биографического, для обособления словесного плана художественного произведения от плана реального и вещественного. Однако в изначальном, тыняновском понимании авторского лица подчеркивалось и другое. В статье «Блок и Гейне» Ю. Н. Тынянов пишет о многоликости, «двойничестве», литературности, романсовости авторского лица Блока («удвоение» есть уже в знаменитой фразе Ю. Н. Тынянова: «Блок – самая большая лирическая тема Блока»), но умноженное, «расщепленное» авторское «я» может быть не только чистым словесным конструктом, но и сохранять «элемент личности» автора в отдельных своих ипостасях, переводить «план искусства на план жизни». Чистый стиль, чистый словесный конструкт без единого намека на человеческое лицо, без единой чужеродной ноты для Тынянова представляет лирическое «я» Гейне, а вот лирическое «я» Блока некоторыми диссонансами словесного плана позволяет полюбить его «человеческое лицо», «а не искусство». См.: Тынянов Ю. Н. Блок и Гейне // Об Александре Блоке. Петербург: Картонный домик, 1921. С. 237–264.
7
Так, например, суммируя свои теоретические идеи 1970-х гг., А. К. Жолковский пишет о поэтическом мире как о «системе идиосинкратических для автора инвариантных мотивов, реализующих его центральный инвариант – единую тему его творчества» (Жолковский А. К. Осторожно, треножник! М.: Время, 2010. С. 97).
8
Эйдриан Уоннер пишет о рассказе «Первый класс»: «Bunin’s choice of genre enhances the intended effect. The single seemingly insignifcant moment captured by his minimalist narrative crystallizes into something larger through the frame in which it is presented. The unresolved tension is refected in a text that, although labeled “rasskaz”, refuses to tell a “story”, but at the same time reverberates with potential narratives». Wanner A. From Subversion to Affrmation: The Prose Poem as a Russian Genre // Slavic Review. Vol. 56. Fall, 1997. № 3. P. 534. [ «Усиление эффекта происходит за счет выбранного Буниным жанра. Его минималистская нарративная техника трансформирует и укрупняет одиночный и, казалось бы, незначительный эпизод, вмещая его во внешнюю рамку. В результате, несмотря на жанровое обозначение “рассказ”, бунинский текст, с одной стороны, ни о чем не “рассказывает”, а с другой стороны, заключает в себе перекличку потенциальных повествований, создавая ощущение напряжения, не находящего себе выхода».]
9
Полярность определяет, по мнению О. В. Сливицкой, «космическое мироощущение» Бунина: «Подобно тому, как атом, невообразимо малая часть солнечной системы, повторяет в себе всю ее структуру, так и человек – и противостоит Космосу, и включает его в себя. Из этого следуют два противоположных, но лишь внешне противоречивых вывода. // Один – безысходно трагический. Перед лицом непостижимых космических сил (природы, эроса и смерти) личность ничтожна, человек незащищен и одинок, а счастье его хрупко и иллюзорно 〈…〉 // Второй вывод – торжествующе оптимистичен. Космос не только противостоит человеку, но и входит в него как огромное целое, наделяя его безмерной силой жизненности» (Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 52–53).
10
Эта формула развертывает в научный дискурс поэтическую строчку Тютчева «Все во мне и я во всем». «В одном стихотворении, – пишет Ю. Н. Чумаков, – обнаруживаются главные черты тютчевского мирообраза, которые многократно преображаются и мультиплицируются в корпусе его лирики: автономность, сжатость, особое качество безличности, связанное с остаточной недифференцированностью авторского лица от универсума» (Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 359).
11
Ман П. де. Аллегория чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. С. 61. Это же пространственное определение из «Сонетов к Орфею» Рильке у Ю. Н. Чумакова применяется для описания композиции пушкинского романа «Евгений Онегин»: «“Евгений Онегин” – поэтически оформленная картина действительности авторского сознания, которая в своем существовании in continuo вбирает в себя и конструирует из себя внешнюю сторону универсума. У Рильке это называется Weltinnenraum, внутреннее пространство мира или, более свободно, душа, вмещающая мир. На этом основании и возводится композиция “Евгения Онегина”» (Чумаков Ю. Поэтика «Евгения Онегина» // Australian Slavonic and East European Studies (Formerly Melbourne Slavonic Studies). Vol. 13. 1999. № 1. P. 37).
12
Златоцвет. Берлин, 1924. С. 9–11.
13
Сливщкая О. В. Основы эстетики Бунина // И. А. Бунин: pro et contra. СПб.: РГГУ, 2001. С. 465–478.
14
Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худ. лит., 1966–1967. Т. 5: Повести и рассказы 1917–1930 гг. С. 90. В дальнейшем сноски на это издание даются в тексте – в круглых скобках с указанием номера тома и страницы.
15
В черновике «Неизвестного друга» письмо от 11 октября заканчивалось так: «Город Вы знаете, он на почтовом штемпеле. Прибавьте только posterestante, N. N.» (РГАЛИ, фонд 44, опись 3, ед. 7, л. 7). В чистовом варианте Бунин убирает даже этот, весьма приблизительный адрес, и подобие инициалов «N. N.».
16
Формалистскими терминами «знак героя», «сюжетный знак» активно пользовался В. Гофман, считавший, что тотальная депсихологизация современной литературы (литературы 20-х гг. прошлого века) является первым шагом на пути к превращению героев в «алгебраические знаки, взятые в самом абстрактном плане». В. Гофман называет героя русской литературы 1920-х гг. (речь идет о Пильняке) «недифференцированным персонажем», «знакомым незнакомцем»: «Герои символизируют тематические тезы автора. Они – иллюстрация, пример. У них нет психологии и нет судьбы – они приготовлены обслуживать тему, как диапозитивы научно-популярную лекцию. Они не говорят, не действуют, не “переживают”. Все это делает за них автор» (См.: Гофман В. Место Пильняка // «Младоформалисты»: Русская проза. СПб.: ИД «Петрополис», 2007. С. 212–213).
17
О «кажущейся семантике», «видимости значения» см.: Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Вопросы поэтики. Л.: Academia, 1924. С. 78–87.
18
Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 56.
19
Значимость «мотива безответности», «молчания» подчеркивает в рассказе О. В. Сливицкая, отмечая «существенную разницу между отсутствием ответа и безответностью» (см.: Сливицкая О. В. Основы эстетики Бунина… С. 466).
20
Михайлов А. Д. «Португальские письма» и их автор // Гийераг. Португальские письма. М.: Наука, 1973. С. 234.
21
Данный сюжет может быть еще более обобщенным – как в «Письмах незнакомке» А. Моруа, где перечисляются идеальные качества идеальной дамы. Бунина интересовали и такие, абстрактные построения, стоит вспомнить только идеальный портрет красавицы со страницы «старинной книги» в «Легком дыхании» («черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки…» – 4; 360). В «Неизвестном друге» героиня конкретна, принципиально не «типажна», уникальна, но одновременно ее образ несколько обобщен.
22
Формулу «Мир без меня» А. К. Жолковский выбирает для целого кластера текстов, объединенных этим лейтмотивом. См., например: Жолковский А. К. Загробное стихотворение Бунина // Жолковский А. К. Новая и новейшая русская поэзия. М.: РГГУ, 2009. С. 53–55.
23
Афонин Л. Н. О происхождении рассказа «Неизвестный друг» // Литературное Наследство. М.: Наука, 1973. Т. 84. Кн. 2. С. 412–423.
24
Н. П. Эспозито сообщает Бунину, что говорит и пишет на четырех языках, читает на шести. См.: Там же. С. 413.
25
Там же. С. 422.
26
На таких основаниях у О. В. Сливицкой под эстетику Бунина подводится философский фундамент: биполярная «Божественная сущность мира»; «неразрывное единство» и одновременно «напряженное противостояние» Инь и Янь; «универсализация души», связанная с состоянием всеобщности, но единственно дающая возможность сосредоточиться на своем «я» (См.: Сливицкая О. В. Основы эстетики Бунина… С. 468–475).
27
Бибихин В. В. Слово и событие. Писатель и литература. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 53.
28
Одна из первых вариаций на темы «Неизвестного друга» у Бунина – это рассказ 1909 г. «Старая песня» (во второй редакции 1926 г. он называется «Маленький роман»), где основу повествования тоже составляют письма героини, уехавшей в свадебное путешествие с нелюбимым мужем. Она пишет из Альп на родину (в Россию) своему давнему другу, любовь к которому еще не успела, но уже готова захватить обоих. Дальнейшее развитие истории оборвано смертью героини, и «маленький роман», таким образом, становится романом не до конца исполнившейся любви. Героиня «Маленького романа», как и героиня «Неизвестного друга», тоже внимательная читательница, а ее письма – это письма о письмах: «В письмах одного умершего писателя, я недавно прочла: “Любовь – это когда хочется того, чего нет и не бывает”. Да, да, никогда не бывает» (2; 335).
29
Отмечено Э. И. Худошиной.
30
Афонин Л. Н. О происхождении рассказа «Неизвестный друг». С. 412.
31
«Теперь мы с ним говорим только о писании и о писании. Мне кажется, что все, что я даю ему читать, должно казаться слабым, беспомощным и сама стыжусь этого… Но что же делать, если я чувствую себя рядом с ним лягушкой, которая захотела сравняться с волом», – пишет о себе и Бунине в «Грасском дневнике» Г. Н. Кузнецова (Кузнецова Г. Н. Грасский дневник. СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. С. 71).
32
Слово «неизвестный» в разных вариантах то и дело появляется в тексте «Неизвестного друга», поддерживая тему заглавия.
33
Еще больше «мужской», авторский взгляд чувствуется в портрете ее дочери: «…прохожу музыкальный урок с дочерью, которая разучивает его трогательно прилежно и сидит за пианино так прямо, как умеют это только девочки на пятнадцатом году» (5; 95).
34
Героиня пишет с тем же мастерством, что и сам Бунин, единственно «женское» и «сентиментальное», что оставлено ее стилю, – это беспрестанно повторяющееся слово «прелестный», один из любимых эпитетов самого Бунина, хранящий оттенок пушкинской поэзии.
35
В классических образцах жанра писем без ответа «сообщительность» между героем и героиней может быть усилена довольно простым способом: отсутствие ответа ведет к самоубийству пишущего, который может буквально одним жестом превратить «мир без тебя» в «мир без меня». Но у Бунина этот, традиционный для беллетристики вариант развязки, даже не проговаривается, как не проговаривается любовное признание.
36
Законы лирической концентрации может продемонстрировать один из примеров А. К. Жолковского. Сравнивая с черновыми последний вариант «Писем римскому другу» И. Бродского, исследователь констатирует исчезновение лирического «я»: «я в качалке, на коленях – Старший Плиний» – было в черновике, «На рассохшейся скамейке – Старший Плиний» – осталось в беловом тексте. В результате – «Старший Плиний», будучи все той же книгой, что и в черновике, все-таки в дефинитивном тексте превращается в «живую» фигуру мудреца-историка, дремлющего на скамейке, а читателю приходится воскрешать в памяти не столько труды, сколько эпоху и биографию древнего автора, а затем невольно искать в ней параллелей с биографией Бродского (См.: Жолковский А. К. Плиний на скамейке: заметки о поэзии Бродского // Жолковский А. К. Новая и новейшая русская поэзия. М.: РГГУ, 2009. С. 173–178).
37
Метонимический принцип, обозначенный формулами «все во мне, и я во всем», «точка, распространяющаяся на все», подробно описан в работах Ю. Н. Чумакова как универсальная модель лирического сознания. См.: Чумаков Ю. Н. Точка, распространяющаяся на все: Тютчев // Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 358–372.
38
Бунин И. А. Темные аллеи. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 238.
39
Ср.: у Чехова: «Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера»; у Бунина: «…чувствовал запах дымка… думая: “Это надо запомнить – в этом дымке тотчас чудится запах ухи”» (7; 75).
40
На общность некоторых черт в бунинских портретах писателей впервые обратил внимание Ю. Мальцев: «Например, при первом же знакомстве с Куприным Бунина восхитило в Куприне нечто “звериное” 〈…〉 В Толстом он тоже отмечает биологическую породистость, “дикость”, сходство с гориллой, его “бровныя дуги”, “по-звериному зоркие глаза” (“по-звериному” – в устах Бунина высший комплимент)» (Мальцев Ю. Иван Бунин. 1970–1953. Frankfurt/Main; Moskau: Possev, 1994. С. 17–18.)
41
Даже название парохода «Гончаров» звучит напоминанием о восточном путешествии фрегата «Паллада».
42
В каком городе она живет, куда едет, остается неясным.
43
Некоторые другие эротические сюжеты Бунина также строятся на единстве и противопоставлении вожделения и жалости, этот мотив отчетливо выделяется в «Гале Ганской».
44
Выготский Л. С. «Легкое дыхание» // Выготский Л. С. Психология искусства. М.: «Искусство», 1986. С. 183–205.
45
Жолковский А. К. «Легкое дыхание» Бунина – Выготского семьдесят лет спустя // Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука, 1994. С. 109.
46
Курсив наш. – Е. К.
47
Визитные карточки фигурируют и в «Деле корнета Елагина», с предсмертными записками на обороте их находят на груди убитой Сосновской – это последняя реплика актрисы.
48
В. Руднев упоминает о «постмодернистской эпистемической вседозволенности», которая предстает характерным вариантом «творческого подхода к жизни», предполагающим не обывательское игнорирование тех или иных недозволенных желаний, не невротическую реакцию на них, а модальную реализацию (Руднев В. Апология нарциссизма: исследования по психосемиотике. М.: Аграф, 2007. С. 160–161).
49
Степун Ф. И. А. Бунин и русская литература // Возрождение, Париж, 1951. Январь-февраль. Тетр. 13. С. 174. (Цитата дана без соблюдения норм дореволюционной орфографии, еще сохранявшихся в «Возрождении» 1951 г.)
50
Еще одна видоизмененная вариация «Одиночества» – «Месть» («Темные аллеи»).
51
В качестве подтекста «Визитных карточек» «Une aventure parisienne» подсказана А. К. Жолковским в ходе обсуждения главы. // У Мопассана восторженная провинциалка, внимательная читательница модных литературных журналов приезжает в Париж в надежде познакомиться со знаменитостью, но литературной мир оказывается закрытым для нее, пока она случайно не узнает через стекло витрины в некоем покупателе антикварной лавки известного писателя, для которого тут же покупает понравившуюся ему дорогую (уродливую, на ее взгляд) статуэтку, а взамен умоляет писателя провести вместе с нею целый день. Недоумевая, писатель соглашается, он возит случайную попутчицу гулять, пить абсент в одном из известных кафе на Больших бульварах, обедать в ресторан, ведет ее в театр, а когда наступает ночь и приходит время возвращаться домой, то провинциалка отказывается покинуть писателя, однако радости богемной жизни остаются недоступны неискушенной героине: «Mais elle était simple comme peut l’être l’épouse légitime d’un notaire de province, et lui plus exigeant qu’un pacha à trois queues. Ils ne se comprirent pas, pas du tout» [ «Но она была неопытна, как только возможно для законной жены провинциального нотариуса, а он был требовательнее трехбунчужного паши. Они не поняли друг друга, совершенно не поняли» (пер. Н. Чеботаревской)].
52
Ряд бунинских подтекстов можно умножать, вплоть до Бессонова из романа «Сестры» А. Н. Толстого, тоже, несомненно, повлиявшего на рассказ.
53
Сюжет «Последнего свидания» напоминает чеховскую «Скучную историю», «Невесту» и пр. рассказы, где молодая девушка покидает дом.
54
Э. И. Худошина отмечает татарские коннотации, характеризующие Волгу в русской имперской географии: «В "Отрывках из путешествия Онегина" Таврида – один из эпизодов маршрута, прочерченного вдоль юго-восточной границы России… где явно отмеченной оказалась "восточная", "татарская" тема: Москва, Нижний Новгород, великая русская река Волга, на которой в недавнем прошлом располагались столицы татарских ханств (из них названа Астрахань), затем Кавказ и Крым» (Худошина Э. И. Крым в имперской географии Пушкина // Крымский текст в русской культуре: Материалы междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 4–6 сентября 2006 г. СПб.: Пушкинский Дом, 2008. С. 32). «Татарская» тема обнаруживает себя не только в «Онегине», но и в других текстах Пушкина, представляя один из ключевых концептов русского национального сознания: «В татарской теме, одически предсказанной в Эпилоге к “Кавказскому пленнику” и лирически развитой в “Бахчисарайском фонтане”, возникают неожиданно-символические коннотации: русский патриций знает, что он – европеец, но в то же время чувствует себя и “немного татарином”, так же как русский имперский миф “знает”, что Россия – это цивилизующий “дикие” народы Запад, но в то же время – “немного” Восток» (Там же. С. 38).
55
Кузнецова Г. Н. Грасский дневник… С. 124.
56
См.: Михайлов О. Н. Страстное слово // Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: ИМЛИ РАН, 1998. С. 5–20.
57
Дмитрием Павловичем зовут главного героя «Митиной любви», и эта ономастическая связь с царской фамилией, придает судьбе Мити символические черты: на гибнущем отпрыске благородного дворянского рода стоит печать погибшей империи, не успевшей расцвести.
58
Этот ряд можно продолжить: во «Втором кофейнике» героиня вспоминает Шаляпина, Малявина и Коровина, заметим, что все три фамилии одинаково оканчиваются, все трехсложны и образуют «русскую тройку» благодаря «русскому» звучанию и русской тематике, объединяющей творчество певца и двух художников.
59
Очевидно, что один и тот же комплекс мотивов связывает поклонницу Брюсова в «Речном трактире» с героиней «Визитных карточек»: «похожей на бедную курсисточку» («Речной трактир») – «мечтала гимназисткой» («Визитные карточки»); «желание воспользоваться ее наивностью», «испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве» («Речной трактир») – «возбуждало его жалостью, нежностью, страстью» («Визитные карточки»).
60
См. об этом: Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е–1950-е годы): Антология. М.: Книжица; Русский путь, 2010. С. 47–59.
61
Морозов С. Н. Бунин – литературный критик: Дис…. канд. филол. наук. М., 2002. С. 59.
62
Там же. С. 60.
63
Бунин И. А., Бунина В. Н. Устами Буниных: В 3 т. / Под ред. М. Грин: М.: Книга по требованию, 2012. Т. 2. С. 52–53.
64
Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. С. 35.
65
Бунин И. А. Заметки (о литературе и современниках) // Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М., 1998. С. 21.
66
Лавров А. В. Вокруг гибели Надежды Львовой. Материалы из архива Валерия Брюсова // Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 199.
67
Бунин И. А. Заметки (о литературе и современниках) // Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: ИМЛИ РАН, 1998. С. 314.
68
Там же.
69
Ходасевич В. Ф. Брюсов // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. С. 32.
70
Там же. С. 33.
71
«Конец Ренаты», то есть смерть и похороны Нины Петровской, остались запечатленными и в дневниковых записях В. Н. Буниной от 24 и 26 февраля 1928 г.: // …покончила самоубийством Нина Петровкая. Верочка рассказывала, что… она пила, прибегала к наркотикам. 45 дней назад умерла ее сестра… она тыкала в нее булавки, а затем колола себя, чтобы заразиться трупным ядом. Но яд не брал ее. Жутко представить, что было в ее душе… Жаль, что знаю я ее очень мало. Почему-то все вспоминается какая-то выставка в Строгановском училище, пустые залы, в одной в углу безжизненная фигура Брюсова в застегнутом сюртуке и мохнатая черная голова Нины на маленьком туловище… // …Похороны расстроили больше, чем ожидала. Народу немного. Больше женщины. Мужчин только четверо: Боря, Ходасевич, Соколов, нотариус и др. Унковский. // Гроб простой, дощатый, в церкви покрыт был черным сукном с серебряными галунами. И от этой простоты, отсутствия обычной на похоронах пышности было очень жутко. // (Бунин И. А., Бунина В. Н. Устами Буниных: В 3 т. / Под ред. М. Грин. М.: Книга по требованию, 2012. Т. 2. С. 174).
72
Лавров А. В. Вокруг гибели Надежды Львовой… С. 207.
73
Надо сказать, что Львова и Сырейщикова были лишь вариациями общего жизенно-поэтического сюжета Брюсова, который он проиграл многократно с разными героинями. Наверное, одна из первых или первая вариация – роман с Е. А. Масловой: // Не раз отмечено, что еще до появления сложных эстетик зрелого символизма, сделавшегося, по слову Андрея Белого, целостным «миропониманием», центральным пунктом «декадентства» 1890-х гг. был именно эротический жизнетворческий эксперимент, порой неотделимый от сопровождающего его текста – тоже далекого от общепринятых литературных конвенций и представляющего собой сплав дневника и сюжетной прозы, который к тому же часто оставался в архиве писателя. Именно такая участь была уготована ранней брюсовской повести «Декадент», написанной в ноябре 1894 г. и отразившей первое серьезное любовное увлечение молодого поэта. В этой жизненно-литературной и отчасти мистической истории (ее участники устраивали спиритические сеансы) с 25-летней Е. А. Масловой будущий лидер русских символистов апробировал ключевые слагаемые впоследствии неоднократно воспроизведенного в лирике и опробованного в повседневности любовного сюжета. Его стержнем было «моментальное покорение женщины, свидетельствующее о силе воздействия личности», следующее за этим соревнование «в силе переживания, воздействия друг на друга, страстности», а также непременное «стремление сохранять “холод тайны, когда огонь кипит в крови”». // (Анисимов К. В., Капинос Е. В. «Речной трактир»: еще раз на тему «Бунин и символисты» // Сибирский филологический журнал. 2013. № 3. С. 93–108). Подробно о Е. А. Масловой см.: Богомолов Н. А. Повесть Валерия Брюсова «Декадент» в контексте жизнетворческих исканий 1890-х годов // Богомолов Н. А. Вокруг «серебряного века». М.: НЛО, 2010. С. 119–164.
74
Лавров А. В. «Новые стихи Нелли» – литературный манифест Валерия Брюсова // Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 163–167 и др.
75
«Брюсовский опыт, – пишет А. В. Лавров, – имеет свой отдаленный типологический прообраз в знаменитом памятнике французской литературы XVII в., “Португальских письмах” Гийерага, выданных за подлинные любовные послания португальской монахини» (Лавров А. В. «Новые стихи Нелли» – литературный манифест Валерия Брюсова… С. 170).
76
И. Эренбург тоже оставил мемуары о Надежде Львовой. В книге «Люди, годы, жизнь» Львова выведена как первая любовь и романтическая корреспондентка автора: «Мы расстались в 1908 году… Два года спустя она начала писать стихи. Не знаю, при каких обстоятельствах она познакомилась с Брюсовым. Осенью 1913 года вышли две книги: “Старая сказка” Н. Львовой и “Стихи Нелли” без имени автора… 24 ноября Надя покончила жизнь самоубийством… Брюсов часто говорил о самоубийстве, над одним из своих стихотворений он поставил тютчевские слова: “И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений – Самоубийство и Любовь”. А Надя застрелилась» (Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: Книга первая и вторая. М.: Советский писатель, 1961. С. 58–59).
77
Имя или его отсутствие важны для Бунина. Именами героинь называются рассказы: «Танька», «Натали», «Таня», «Руся», «Зойка и Валерия», «Галя Ганская» и т. п., имена становятся почти портретами – то нарисованными по контрасту (Зойка и Валерия), то обогащенными дополнительными коннотациями (к примеру, польскими в «Гале Ганской» или русскими в «Русе»).
78
См., например, в воспоминания Л. Арсеньевой: «Но я видела его веселым, энергичным и слабым, больным (в 1935 году), слепнущим, по временам даже теряющим память, но никогда не терявшим своего купринского “я”, своего “неуемного татарского нрава”, – выражаясь его собственными словами. Куприн неизменно ссылался на этот “неуемный татарский нрав” как на исчерпывающее объяснение своих поступков, когда ему случалось рассердиться, выйти из себя, хотя бы и по справедливому гневу, или просто вспылить (и в “Юнкерах” Куприн говорит о своем татарском нраве)» (Арсеньева Л. О Куприне // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994. С. 51).
79
См.: Григорков Ю. А. И. Куприн (мои воспоминания) // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994. С. 53.
80
Думается, перечисление в одном ряду легендарной «Бродячей собаки» с «Медведем» при описании литературной жизни Москвы 1918 г. также должно усилить «дьявольские», «дикие», «звериные» коннотаты происходящего в революционное время в стране и в писательской среде: // …а вы-то, не вылезавшие из «Медведей» и «Бродячих собак»? Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, – большой гонорар, говорит, дадим (запись от 2 марта 1918 г.) // (Бунин И. А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М.: Советский писатель, 1990. С. 83.)
81
Возможно, в этой песне, исполненной Иваном Грачевым от лица девицы, обнаруживается пародия на тему травестийного брюсовского цикла «Стихов Нелли».
82
В это время мы можем почувствовать, как отличается «я» молодого доктора от «я» того же героя, сидящего в «Праге». Доктора «1913 года» характеризует куда большая грусть и смиренная беспомощность перед ходом истории.
83
В рассказе «Кума», следующем за «Речным трактиром» в «Темных аллеях», герой рекомендует себя «знатоком и собирателем древних русских икон», что роднит его и с Брюсовым из «Речного трактира», и с доктором. В лирической прозе мы чувствуем все время как будто бы одного героя, очень близкого автору, героя, который есть «некое» авторское «я». И в то же время – перед нами разные герои, вплоть до противоположных (как в случае с Брюсовым), чья похожесть только помогает варьировать одни и те же темы, поворачивать их разными сторонами к читателю.
84
Подобные выводы вытекают не только из лирической природы текста, но и из универсальной природы дискурса вообще. К примеру, Ж. Деррида в противовес «центростремительному» присутствию, обоснованному в философии экзистенциалистов, усиливает смыслы децентрации: // И это позволяет прийти к выводу, что центра нет, что его нельзя помыслить в форме присутствующего сущего, что у него нет естественного места, что он представляет собой не закрепленное место, а функцию, своего рода неместо, где происходит бесконечная игра знаковых замещений. Вот в этот-то момент язык и завладевает универсальным проблемным полем; это момент, когда за отсутствием центра или начала все становится дискурсом – при условии, что мы будем понимать под этим словом систему, в которой центральное, изначальное или трансцендентальное означаемое никогда полностью не присутствует вне некоторой системы различий. Отсутствие трансцендентального означаемого раздвигает поле и возможности игры значений до бесконечности // (Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Ad Marginem, 2000. С. 448). В художественном дискурсе, особенно лирическом, силы децентрации возрастают, как, впрочем, и центробежные силы.
85
Вот далеко не полный перечень прозаических текстов Бунина с морскими пейзажами. Северное море изображено в «Велге», Черное – в «Надежде», «Тумане», «Ночи», «Кавказе», «Истории с чемоданом», «Молодости и старости», в рассказах «Осенью», «Конец», «В такую ночь…», «Крик», бегло, но очень значимо упоминается Черное море в «Митиной любви»; Средиземное – в «Генрихе», «Мести», «Острове Сирен», в рассказах «Возвращаясь в Рим», «Мистраль», «Бернар»; Черное и Средиземное – в «Холодной осени», «Гале Ганской»; Черное море и Антарктика – в «Пингвинах»; Красное – в «Копье Господнем»; Индийский океан – в рассказах «Третий класс», «Ночь отречения», «Соотечественник»; Атлантика – в рассказе «Старый порт», разные моря и океаны в «Господине из Сан-Франциско», «Жизни Арсеньева», «Неизвестном друге», «Водах многих», «Братьях», «Сыне», «Снах Чанга», «Отто Штейне». Книга художественных очерков «Тень птицы» (1934) посвящена морскому путешествию Бунина в Константинополь, Афины, Египет, Яффу, Ливан и Сирию, а затем в Бейрут, Баальбек и Табху (само путешествие было совершено Буниным в 1907 г.). Подробно о путешествиях И. А. Бунина и их художественных описаниях см.: Натова Н. Воды многая: «Путевые поэмы» И. А. Бунина // Записки русской академической группы в США. New York, 1995. Т. XXVII. С. 135–162.
86
Бабореко А. Бунин: Жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 87.
87
Приведем несколько примеров таких дневниковых пейзажей: «Солнечный день, на пути в Cannes – обернулись: чисто, близко, четко видные полулежащие горы несказанно-прекрасного серого цвета, над ними эмалевое небо с белыми картинными облаками» (Бунин И. А., Бунина В. Н. Устами Буниных. М.: Книга по требованию, 2012. Т. 2. С. 212); «Проснулся в 4 ½. Довольно сумрачно – рассвет совсем как сумерки. В синеватых тучках небо над Эстерел[ем], над Антибск[им] мысом по тучкам красноватое, но солнца еще нет» (Там же. Т. 2. С. 288); «Солнечно – и уже августвск. и сент. сухость в этом блеске. Все еще доносится мистраль» (Там же. Т. 3. С. 62); «Ночь, молодая луна, мистраль» (Там же. Т. 3. С. 85); «Мрачно, холод, дождь, Эстерель пегий от снега» (Там же. Т. 3. С. 81).
88
Под «концом» в заглавии, конечно, подразумевается гибель не только в прямом, но и в переносном смысле слова: путешествие может закончиться по-разному, но в любом случае «Конец» повествует о конце России и о конце тех, кто ее покинул.
89
Евпатория не называется в тексте, но ее можно узнать по отмели у берега, пароход у Бунина стоит на рейде, там и происходит посадка.
90
Позже, в «Речном трактире», Бунин повторит какие-то детали рассказа «В ночном море». «Речной трактир» – это тоже длинная беседа врача и писателя, правда, рассказ ведется от лица врача, о его жизни, а собеседник молча слушает.
91
«Уже это парадоксально – анализ эмоций, которых нет», – пишет о рассказе О. В. Сливицкая (Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология: О рассказе «В ночном море» // Концепция и смысл: Сб. статей в честь 60-летия проф. В. М. Марковича. СПб.: Изд-во С-Петербург. ун-та, 1996. С. 288).
92
Приведем здесь комментарий к рассказу: «В. Н. Муромцева-Бунина связывала происхождение рассказа с личными переживаниями писателя, с его отношением к А. Н. Бибикову, за которого, разойдясь с Буниным, вышла замуж В. В. Пащенко (прообраз Лики в романе “Жизнь Арсеньева”). // 〈…〉 Вера Николаевна писала: “К Арсению Николаевичу Бибикову у Ивана Алексеевича не было не только злобы, но и дурного чувства… // Первого мая 1918 года, рано утром, я еще лежала в постели и услышала мужские шаги: кто-то вошел в комнату Ивана Алексеевича. Это оказался Бибиков. Только что скончалась его жена, и он кинулся к нему. // О чем они говорили, я не спрашивала. Думаю, что рассказ “В ночном море” зародился и вырос из этого свидания» (5; 515).
93
В художественной прозе Бунина, а также в статьях можно найти множество вариаций на темы романа. Поэзия усадьбы с теми же мотивами, что и в романе, разработана в «Золотом дне», «Несрочной весне», «Антоновских яблоках», «Последнем свидании», в очерке «Читая Пушкина» и др. (речь об этом еще пойдет в 5 главе), тема детства – в «Далеком», «Снежном быке», «У истока дней» (с эпизодом смерти сестры, повторенным в «Арсеньеве»), тема Лики, если верить мемуарам В. Н. Буниной, начинается с «Ночного моря» и не уходит со страниц произведений Бунина вплоть до «Темных аллей».
94
Формула «мириады лет тому назад» встречается и в других рассказах Бунина, к примеру, в этюде «Ночь» 1925 года в сочетании с теми же темами бессмертия души и восточными мотивами: // Рождение! Что это такое? Рождение! Мое рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той (совершенно непостижимой для меня) тьме, в которой я был зачат до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, из которой весьма многое повторилось во мне почти тождественно. «Я помню, что когда-то, мириады лет тому назад, я был козленком». И я сам испытал подобное (как раз в стране того, кто сказал это, в индийских тропиках): испытал ужас ощущения, что я уже был когда-то тут, в этом райском тепле (5; 300–301).
95
Ср. одноименное стихотворение И. А. Бунина – «Пантера».
96
Аверин Б. В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 182–183.
97
Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология: О рассказе «В ночном море»… С. 287.
98
Подробно о символике заглавия и его контексте у Бунина см.: Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология: О рассказе «В ночном море»… С. 290.
99
Там же. С. 289.
100
РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 56. Л. 6.
101
У Бунина собрано много реплик Чехова, в которых звучит предчувствие скорой кончины: // «– Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам. // На этот раз он ошибся: он прожил меньше» (9; 190–191). «Поистине было изумительно то мужество, с которым болел Чехов!» (9; 184) – восклицает Бунин. А вот несколько «врачебных» шуток смертельно больного Чехова на темы здоровья: «В письме от 29 сентября он пишет между прочим: “… скажи Бунину, чтобы он у меня полечился, если нездоров; я его вылечу”» (9; 212); «Он и мне в последнем письме, которое не попало в собрание его писем, писал в середине июня, что “чувствую себя недурно, заказал себе белый костюм”» (9; 217).
102
Бунин так передает обращенные к нему слова Чехова: «Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: “Море пахнет арбузом…” Это чудесно, но я бы так не сказал» (9; 196), то же самое, по воспоминаниям Бунина, говорил Чехов Горькому: «У вас слишком много определений… понятно, когда я пишу: “Человек сел на траву”. Наоборот, неудобопонятно, если я пишу: “Высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжеватой бородкой сел на зеленую, еще не измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь…”» (9; 219). А вот собственное бунинское определение стилистики Чехова: «Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если употреблял, то чаще всего обыденные, и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом» (9; 198).
103
О. В. Сливицкая называет целый ряд элегий об «идиотическом бесчувствии», среди которых «Признание» Боратынского, шестая из «Северных элегий» Ахматовой (см.: Сливицкая О. В. Бунин: психология как онтология: О рассказе «В ночном море»… С. 288), к этому можно прибавить лишь то, что пушкинская «недоступная черта» послужила самым очевидным интертекстом для стихотворения «Есть в близости людей заветная черта…» А. Ахматовой.
104
Судя по дневникам Бунина и статье «Конец Мопассана», он чрезвычайно высоко ценил мастера французской новеллы. В дневнике В. Н. Буниной за 1918 г остался такой диалог: // «– А куда вы отнесете Мопассана? – спросил улыбаясь Ян. // – Мопассан – другое дело, – он создал пятнадцать томов мужчин, женщин, – возразил Тальников. // – Да, и мироощущение у него иное, очень глубокое, – добавил Ян» (Бунин И. Α., Бунина В. Н. Устами Буниных. М.: Книга по требованию, 2012. Т. 1. С. 185).
105
Дело еще и в том, что Бунин вплоть до последних лет своей жизни редактировал «Бернара», этим текстом заканчивается и 7 том цитируемого нами 9-томного собрания сочинений Бунина 1965–1966 гг. (7 том – это последний из томов с художественной прозой писателя, 8-ой отдан стихам и переводам, 9-й – мемуарам и публицистике). Отводя рассказу заключительное место, составители руководствовались, по-видимому, прижизненным изданием: Бунин И. А. Собр. соч., т. I–XI, где рассказ входит в 9 том.
106
Здесь и далее цитаты из «Sur l’eau» приводятся по изданию: Maupassant G. de. Sur l’eau / Edition présenté, établie et annotée par Jacques Dupont. Paris: Gallimard, 2000.
107
Заглавие рассказа «Sur l’eau», в отличие от такого же заглавия дневника, на русский переводят «На реке», а не «На воде».
108
Так, в финальных сценах романа «Bel-Ami» символический смысл фокусируется вокруг картины «Jésus marchant sur les fots» («Иисус, шествующий по водам»): в помутившемся рассудке госпожи Вальтер жестоко изменивший ей Дюруа то уподобляется Христу и предстает спасительным идеалом, то обращается в дьявола.
109
О древних, античных и мифологических, истоках осмысления средиземноморского пространства см.: Топоров В. Н. Эней – человек судьбы. К «средиземноморской персонологии». М.: Радикс, 1993. Ч. 1.
110
Здесь и далее цитаты из «Bel-Ami» приводятся по изданию: Maupassant G. de. Bel-Ami. Préface et notes de Jean-Louis Bory. Paris: Gallimard, 2003. В пер. Н. Любимова: // Но вот с крутого поворота неожиданно открылся широкий вид: и залив Жуан, и белая деревушка на том берегу, и мыс Антиб впереди – все было теперь как на ладони. // – Вон эскадра! Сейчас ты увидишь эскадру! – по-детски радуясь, шептал Форестье. // 〈…〉 // Форестье пытался вспомнить названия судов: // – «Кольбер», «Сюффрен», «Адмирал Дюперре», «Грозный», «Беспощадный»… Нет, я ошибся, «Беспощадный» – вон тот. (Здесь и далее цитаты из русского перевода романа «Милый друг» приводятся по изданию: Мопассан, Г. де. Собр. соч.: В 7 т. М.: Правда, 1992. Т. 3).
111
Все варианты данного пейзажа в творчестве Мопассана перечислены Ж. Дюпоном. См.: Maupassant Guy de. Sur l’eau… P. 185.
112
«Voici le Colbert, la Dévastation, l’Amiral-Duperré, le Courbet 〈…〉 // Je veux visiter le Courbet 〈…〉 Rien ne donne l’idée du labeur humaine, du labeur minutieux et formidable de cette petite bête aux mains ingénieuses comme ces énorme citadelles de fer 〈…〉 travail de fourmis et de géants, qui montre en même temps tout le génie et toute l’impuissance et toute l’irremédiable barbarie de cette race si active et si faible qui use ses efforts à créer des engins pour se détruire elle-même» («Вот “Кольбер”, “Разгром”, “Адмирал Дюперре”, “Курбе” 〈…〉 Я решил посетить “Курбе” 〈…〉 Ничто не дает такого точного представления о человеческом труде, о кропотливом и исполинском труде этой козявки с искусными руками, как выстроившиеся передо мной стальные твердыни 〈…〉! Труд муравья и гиганта, в котором отразились и гений, и бессилье, и безнадежное варварство племени, столь деятельного и столь ничтожного, отдающего все свои силы на создание машин, заготовленных для его же гибели») [Здесь и далее цитаты из русского перевода книги «На воде» приводятся по изданию: Мопассан Г. де. Собр. соч.: В 7 т. М.: Правда, 1977. Т. 5 (Пер. Б. Горнунга)]. Возможно, к мопассановскому описанию военной эскадры («храмы смерти», выстроившиеся на рейде) восходит и корабль-дьявол в «Господине из Сан-Франциско».
113
«Я заносил в этот дневник свои смутные мечтания 〈…〉 Меня просят опубликовать эти беспорядочные, нестройные, неотделанные записки, которые следуют одна за другой без всякой логики и обрываются вдруг, без причины, только потому, что порыв ветра положил конец моему путешествию. // Я уступаю этой просьбе. Быть может, напрасно».
114
«“Милый друг” – это не совсем точный перевод заглавия романа, поскольку для “bel” трудно подыскать подходящий русский эквивалент, «мопассановское bel ami, образованное по аналогии с названиями вроде beau-père ‘тесть, свекр, отчим’, beau -frère ‘шурин, свояк, деверь’, то есть иной брат, ведь красота (bel, beau ‘красивый, прекрасный’) это инакость, потому-то bel ami по-русски не милый друг, а дружок», – пишет, ссылаясь на О. Н. Трубачева, В. Айрапетян (Айрапетян В. Толкуя слово: Опыт герменевтики по-русски. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 315–316).
115
Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. М.: Possev, 1994. С. 325–326.
116
Там же. С. 327.
117
Насколько значимой и символичной была смерть и память о В. К. Николае Николаевиче в окружении Бунина видно по дневнику В. Н. Буниной: // Поехали с Лосем на панихиду по Николае Николаевиче […] панихида в нижней церкви у надгробия Ник. Ник. Мы прошли совсем вперед. Народу уже было порядочно, в проходе шпалерами стояли, вероятно, военные, в самой церкви у стены – хор, молящиеся – Кутепов, Баратов и др. Странно казалось, что панихиду служат в белых и голубых ризах. Перед надгробием Вел. Князя, позади священников, стояла жена и родственники […] 〈…〉 После панихиды подошли поклониться могиле. По сравнению с летом стало наряднее: много цветов, всяких лент, зеленое Великокняжеское знамя, на кожаной подушке корона, на стенах – образа, лампы – все, что осталось от Империи, символы ее. Тяжело […] (Бунин И. А., Бунина В. Н. Устами Буниных. С. 214).
118
При желании можно даже отыскать дальние родственные связи Буниных и Романовых: См.: Пчелов Е. В. Бунин и Романовы // Творчество И. А. Бунина и русская литература XIX–XX веков. Белгород, 1998. С. 112–116.
119
Разъяснение стихов наивной возлюбленной – это частый сюжет у Бунина, вот еще пример из «Холодной осени»: // Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета: // Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот… // – Капота нет, – сказала я. – А как дальше? // – Не помню. Кажется, так: // Смотри – меж чернеющих сосен Как будто пожар восстает… // – Какой пожар? // – Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. «Надень свою шаль и капот…» Времена наших дедушек и бабушек… Ах, Боже мой, Боже мой! // – Что ты? // – Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя… (7; 207).
120
Произведений с подобным сюжетом множество: от «Письма незнакомки» С. Цвейга, где этот сюжет однотонно пуантирует повествование от начала до конца, до романа Р. Гари «Ожидание на рассвете» (R. Gary, «La promesse de l’aube»), где письма матери к главному герою – периферийный, но необычайно важный момент.
121
Так же остается, уже уйдя из жизни, Лушка рядом с Хвощинским в «Грамматике любви», безымянная героиня – рядом с рассказчиком в «Позднем часе».
122
В этом смысле показателен рассказ «Таня» из «Темных аллей», где героиня в чистом виде воплощает этот наивный тип.
123
Любопытно, что в примечаниях А. Мясникова к «Суходолу» четко противопоставляются крестьяне и дворяне в принятых литературоведческих традициях середины 60-х гг., и тем не менее А. Мясников находит возможность отметить особый взгляд Бунина на этот счет: «Кровь господ и кровь мужиков давно перемешалась в дворянских усадьбах и деревнях» (3; 457). Бунину была дорога исконная, древняя, досословная связь дворянства и крестьянства, единство их уз. Тема «“утробного” единства баб и мужиков» видится К. В. Анисимову как одна из главных тем «Суходола» и других произведений Бунина, в «Суходоле» семейными узами с Хрущевыми связана горничная Наталья, подобно тому, как Наталья Савишна связана с Иртеньевыми в «Детстве» Толстого. (См.: Анисимов К. В. Толстовские мотивы в «Суходоле» И. А. Бунина // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2009. № 4 (66). С. 199–207.) Та же идея заимствована у К. В. Анисимова С. А. Ломакиной. (См.: Ломакина С. А. Наследие Л. Н. Толстого в творческом сознании И. А. Бунина // И. А. Бунин и XXI век. Мат-лы междунар. науч. конф., посв. 140-летию со дня рожд. писателя. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2001. С. 164–169.) Аналогичный сюжет родства/ отчужденности связывает в мире Бунина писателя с персонажами. И тот же сюжет родства/отчужденности связывает в мире Бунина писателя с персонажами.
124
Подчеркивая «ассоциативный принцип раскрытия образа» у Бунина, А. А. Хван делает блестящее наблюдение над сюжетом «Генриха», связывая воедино смерть Генрих и стоянку поезда, везущего Глебова в Ниццу: // Символичность следующей картины является кульминационной в передаче на тонком уровне произошедшей трагедии: «Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящийся огонь при входе в закопченную пасть туннеля». (Хван А. А. Метафизика любви в произведениях А. И. Куприна и И. А. Бунина. М.: Институт художественного творчества, 2003. С. 78.)
125
В книге Б. В. Аверина речь идет о некоем «несоответствии, “зазоре” между действительностью и воспоминанием о ней» у Бунина: «Впечатление от реальности, след, оставленный от нее в душе, остается странным ее подобием, природу которого необходимо уловить» (Аверин Б. В. Дар Мнемозины: романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 215). «Погоня» за воспоминанием, а не статическая констатация «прошлого в настоящем» и определяет природу бунинского рассказа.
126
Вымышленный австрийский писатель Артур Шпиглер из «Генриха» как бы «довоплощается» до реального Артура Шницлера в «Чистом понедельнике»: «Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги – Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского». Создается ощущение одного героя, который прорисовывается то дальше от реальности, то ближе к ней.
127
Первый намек на сходство между Глебовым и Дюруа можно найти уже на первой странице рассказа «Генрих». Поднимаясь в лифте, Глебов смотрится в зеркало: «Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет» (4; 225). Поднимаясь по лестнице к Форестье, Дюруа точно так же любуется собой в зеркале на первых страницах «Bel-Ami»: «il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait 〈…〉 c’etait lui-même, refété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie le ft tressaillir tant il se jugea mieux qu’il n’aurait cru» («вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор 〈…〉 это был он сам, его собственное отражение в трюмо, стоявшем на площадке второго этажа и создававшем иллюзию длинного коридора. Он задрожал от восторга, – в таком выгодном свете неожиданно представился он самому себе»). Примечательно, что зеркальные мотивы пронизывают весь рассказ Бунина, персонажи появляются в зеркале чужих слов, воспоминаний, переводов. В «Bel-Ami» закат над морем и Антибом, отраженный в зеркале, видят Дюруа и Мадлена, сидя у постели умирающего Форестье: «La glace de la cheminée, refétant l’horizon, avait l’air d’une plaque de sang» («Зеркало над камином, отражавшее даль, казалось кровавым пятном»). Зеркало как мотив, позволяющий судить о «сугубо бунинской воспринимающей способности сознания… отличающейся “неслиянным и нераздельным” соприсутствием в ней человека и мира, жизни и смерти, телесно-физического и духовно-ментального планов бытия» исследуется в работе Е. К. Созиной (См.: Созина Е. К. Мотив зеркала в прозе И. Бунина. Рассказ «У истока дней» // Литературный текст: проблемы и методы исследования. Тверь: ТГУ, 1998. С. 59–74). // Е. К. Созина рассматривает мотив зеркала в широком, «метатекстуальном» ракурсе, подобный подход мы предлагаем здесь для описания морских, водных мотивов. Кстати, в некоторых текстах Бунина можно установить связь между «водным» и «зеркальным». Например, мотив зеркала, метафора жизни-плавания с Библейскими и разнообразными литературными подтекстами, антибский пейзаж за окном, рефлективное самоописание – из всего этого вырастает миниатюра «Мистраль» 1944 г.
128
«потому что я его старый друг».
129
Мотив сокрытия и обнажения исходит из области все той же местоименной динамики, отмеченной Ю. Мальцевым у Бунина (см. сноски 31, 32), прием этот не ограничивается полем местоимений, но распространяется и на имена. Вот один из таких примеров: Глебова в рассказе почти не называют по фамилии, фамилия мелькает лишь пару раз в начале и исчезает, дальше героя обозначает только местоимение «он». Скольжение от «Глебов» к «он», формально не меняя третьего лица, все же приближает читателя к герою, к его собственному «я», а героя приближает к автору. К концу рассказа точка зрения вплотную придвигается к герою, и автор, уже почти сливаясь с ним, дает обзор происходящего откуда-то изнутри геройного «я», почти отождествившегося с «я» авторским. // Движение авторского и геройного «я» из одной дейктической области в другую, с одной на другую точку зрения, часто отмечают также у Чехова. Разумеется, прием этот был отрефлексирован обоими писателями, о чем свидетельствует следующая реплика в бунинской книге о Чехове: // «– Боюсь Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте» (9; 206).
130
По сравнению с элегией «Под небом голубым…», речь о которой шла выше, это стихотворение – еще один инвариант элегического любовного сюжета, аранжированного темой своего / чужого берега, только привычное для романтической поэзии море заменено рекой, чужие края – родными местами, но элегический мотив «чужого берега» «работает» и здесь.
131
Сюжет Пигмалиона и Галатеи, поэта и Музы достаточно часто появляется у Бунина, а в «Темных аллеях» один из рассказов так и назван – «Муза».
132
Если принять на веру то, что в «Речном трактире» прототипом курсистки, зашедшей в «Прагу» с Брюсовым, является Надежда Львова (см. об этом в I главе этой книги), то вполне логично рассматривать «Галю Ганскую» как вторую в «Темных аллеях» вариацию сюжета неожиданного самоубийства героини, и тогда этот рассказ может быть сочтен подтекстовым остатком «Речного трактира», разросшимся до самостоятельного текста и совершенно оторванным от «реалий».
133
Без отрывков «из старинных книг», описания библиотек, перечисления писаных и неписаных правил сочинительства, цитат из разных поэтических и прозаических текстов, что уже отмечалось и еще будет показано ниже, редко обходится какой бы то ни было рассказ Бунина.
134
Надо отметить, ссылаясь на С. Н. Морозова, что среди псевдонимов Бунина пока не найдено подписи «Ивлев». Художественные произведения Бунин чаще всего публиковал под своей фамилией, а под псевдонимами печатался в периодике во времена своей журналистской или редакторской деятельности. С. Н. Морозов констатирует: «Бунин использовал псевдонимы только в первый период своей литературной деятельности. Это были следующие псевдонимы: И. Б., И. Б-н, Ив. Б-н, И. А. Б-н, И. А. Б…, Б-н, И. Озерский, Чубаров, И. Чубаров, Ч-ов» (Морозов С. Н. И. А. Бунин – критик: Дис…. канд. филол. наук. М., 2002. С. 158), так что комментарий к рассказу может быть специальным наведением на автобиографический план персонажа. Правда, как и «Ивлев», почти все перечисленные С. Н. Морозовым псевдонимы «произведены от начальных букв» имени Бунина, за исключением топонимического псевдонима, отсылающего к родным для Бунина местам – Озеркам, и фамилии его матери – Л. А. Чубаровой.
135
Подробный перечень различных концепций памяти, связанных с творчеством Бунина, приводит в своей книге Б. В. Аверин (АверинБ. В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. С. 176–180).
136
«Куда точно и с какой целью едет он, – пишет об Ивлеве Η. М. Зоркая, – (…) остается неизвестным». Далее делается предположение, что Ивлев «ехал с самого начала по Лушкиным местам 〈…〉 Наверное, одиозность истории Хвощинского (а значит – и влюбленности в Лушку Ивлева) заставляет его скрывать, может быть, от самого себя истинную цель поездки» (Зоркая Н. М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 1900–1910 годов. М.: Наука, 1976. С. 253, 256).
137
Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 190–198. Что касается близости «мировоззренческих начал» Тургенева и Бунина, то здесь можно говорить об интересе обоих писателей к пограничным преморбидным и онейрическим состояниям, к различению их оттенков. В. Н. Топоров так описывает мистическое чувство Тургенева: «Мистическое чаще всего открывалось Тургеневу в таинстве жизни и смерти, а одной из частых и конкретных форм проявления мистического были сны, которые он фиксировал в своих произведениях и письмах многажды и обычно очень тонко, стараясь не возмутить виденное слишком грубой реальностью слова» (Топоров В. Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М.: РГГУ, 1998. С. 47).
138
См. об этом подробнее: Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. С. 190.
139
С. Кржитски, несколько спрямляя проблему, называет «Ивлева» «ранним псевдонимом» Бунина («Ivlev is an early pen name of Bunin») (Kryzytski S. The Works of Ivan Bunin. The Hague; Paris, 1971. P. 114).
140
«“Погода” повторяет и усиливает “линию Лушки”, ей вторя, вибрируя, нарастая. Знаменательно здесь то, что погода – так сказать, “компонент пейзажа” – у превосходного пейзажиста Бунина в рассказе отделена от пейзажа, имеет свою самостоятельную роль. Пейзаж ровный, однотонный. Погода же изменчива, одухотворена, подводит нас к кульминации и разрядке» (Зоркая Н. М. На рубеже столетий. С. 257).
141
Ярко прослеживается этот прием, к примеру, в рассказе «Темир-Аксак-Хан», где в начале от лица автора описывается морской берег: «Издалека, снизу, доносится шум невидимого моря, со всех сторон веет из темноты влажный беспокойный ветер» (5; 34), а в конце редкое, с ранних лет присущее Бунину чувство близости невидимой водной стихии, незаметно «передано» героине: «…в эту темную и влажную ночь с отдаленным шумом невидимого моря, с запахом весеннего дождя, с беспокойным, до самой глубины души проникающим ветром» (5; 36).
142
Жолковский А. К. «Легкое дыхание» Бунина – Выготского семьдесят лет спустя // Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука, 1994. С. 115.
143
Именно такую версию прочтения имени Лушки предлагает Л. П. Пожиганова. См.: Пожиганова Л. П. Путешествие с Дон-Кихотом: поэтика игры в рассказе «Грамматика любви» // Пожиганова Л. П. Мир художника в прозе Ивана Бунина 1910-х годов. Белгород, 2005. С. 134.
144
К тому же «плакучая береза» продолжает тему «черных куличиков», которые «с плачем метнулись 〈…〉 в дождливое небо» (4; 301). Плотная мотивная сетка «печальных» мотивов придает элегическую окраску всему тексту «Грамматики любви», где внешние, «пейзажные» и «интерьерные» черты наплывают на сферу эмоциональной жизни героев и автора.
145
Здесь необходимо привести еще одну цитату из работы Н. М. Зоркой: «История Лушки в рассказе прерывиста, сбита и неясна – восстановить ее в точности было бы невозможно, ибо мы даже не узнаем ни причины смерти героини (то ли самоубийство, то ли что-то другое), не знаем ни ее отношения к Хвощинскому, ни подробностей их “романа”. Лушка сразу является нам из рассказа “легендарной”, “загадочной”, “смутным образом”» (Зоркая Н. М. На рубеже столетий. С. 255).
146
На подтекст из «Бедной Лизы» указывает К. В. Анисимов. «Бедная Лиза» с ее коллизией встречи и расхождения сословий оказывается чрезвычайно важной, по мнению исследователя, для историософии Бунина, пытающегося найти гармонизирующие медиальные силы, которые бы сгладили сословные расхождения: // // Мерцание самоубийства Лизы как минус-приема 〈…〉 обусловлено не только полемикой с руссоистским социологизмом, который выражал Карамзин («И крестьянки любить умеют»). Дело 〈…〉 в более глубокой исторической соотнесенности текстов Бунина и Карамзина 〈…〉 Бунинский сюжет в этом смысле представляет собой инверсию: роман помещика 〈…〉 Хвощинского с дворовой девкой приводит к настоящей гибели не ее (она умерла своей смертью), а именно его, превращающегося 〈…〉 в «безжизненную марионетку». Природа в своем превосходстве как минимум проблематизируется, а социальные оценки снимаются (Анисимов К. В. Грамматика любви И. А. Бунина: историко-культурные контексты // Нарративные традиции славянских литератур: От средневековья к Новому времени. Новосибирск, 2014. С. 219.).
147
Об этом см.: Проскурина Е. Н. Судьба «дома у дороги» у Пушкина, Бунина, Платонова // Пушкин в ХХI веке: вопросы поэтики, онтологии, историцизма. Сб. статей к 80-летию проф. Ю. Н. Чумакова. Новосибирск, 2003. С. 179–186. О сюжетном сходстве рассказов «Грамматика любви» и «Темные аллеи» см. также: Краснянский В. В. Три редакции одного рассказа // Русская речь. 1970. № 5. С. 61–62.
148
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1977. С. 352.
149
См.: Краснянский В. В. Три редакции одного рассказа. С. 57–62.
150
Краснянский В. В. Три редакции одного рассказа. С. 59.
151
См.: Анисимов К. В. Грамматика любви И. А. Бунина: историко-культурные контексты… С. 202.
152
См.: Там же. Ранее на сходство матери и сына указывалa Н. М. Зоркая, на которую и ссылается К. В. Анисимов (Зоркая Н. М. На рубеже столетий. С. 252).
153
Проблему «генезиса приема “перечисления авторов и книг”» И. Г. Добродомов и И. А. Пильщиков ставят в связи с кругом чтения Онегина и Автора в «Евгении Онегине»: // Юмъ〈,〉 Робертсонъ, Руссо, Мабли〈,〉 // Бар〈онъ〉, д’Ольбахъ〈,〉 Волтеръ, Гельвецiй〈,〉 // Локъ, Фонтенель, Дидротъ – // Ламотъ // Горациiй, Кикеронъ, Лукрецiй〈.〉 // // Подобные перечни то и дело встречаются в черновиках и беловой редакции «Онегина» и в других художественных текстах первой половины XIX в. См.: Добродомов И. Г., Пильщиков И. А. Лексика и фразеология «Евгения Онегина». Герменевтические очерки. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 133–141.
154
К. В. Анисимов отмечает две традиции, отраженные в библиотеке Хвощинского: высокую книжную и низовую, что оказывается важным для интерпретации рассказа (См.: Анисимов К. В. Грамматика любви И. А. Бунина: историко-культурные контексты… С. 219–221).
155
Тургенев И. С. Бригадир // Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. М.: Наука, 1965. Т. 10. С. 48.
156
Бунин был внимателен ко всем видам «травы забвения» (это словосочетание процитировано из рассказа Бунина «Несрочная весна» В. Катаевым в заглавии собственной книги): мотивы ядовитых растений, уводящих в мир снов, забвения, смерти есть в «Жизни Арсеньева», в стихотворении «Дурман» («Дурману девочка наелась…»), в «Косцах» и др. текстах.
157
О том, какие проекции дает стихотворение «Последний поэт» Боратынского на текст «Грамматики любви» Бунина см.: Кучеровский Н. М. И. Бунин и его проза (1887–1917). Тула, 1980. С. 211–212.
158
См.: Блюм А. В. Из бунинских разысканий // И. А. Бунин: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2001. С. 678–681.
159
Отсюда – возможность истолковать Хвощинского как рыцаря, ДонКихота. См.: Пожиганова Л. П. Путешествие с Дон-Кихотом: поэтика игры в рассказе «Грамматика любви». С. 129–148.
160
Жолковский А. К. «Легкое дыхание» Бунина – Выготского семьдесят лет спустя. С. 329.
161
Хотя реальный прототип «Грамматики любви» относится к 30-м гг. XIX в., а условное время любви Хвощинского располагается на временной оси еще позже, но мы говорим о традиции XVIII в., т. к. стиль письма и жизни Хвощинского – устаревший, он будто бы оставлен вне XIX в. Рискнем провести, может быть, излишне прямую аналогию между автором и его героем: литературные интересы самого Бунина были обращены на прошлое и в поэзии (лирика XIX в., a не символисты и акмеисты), и в прозе (к примеру, из французов – не столько Пруст, сколько Мопассан).
162
См. об этом: Топоров В. Н. «Сельское кладбище» Жуковского: к истокам русской поэзии // Russian Literarute. 1981. № 10. С. 235–241.
163
Это определение А. К. Жолковский приводит в связи со стихотворением Б. Пастернака «Ветер» («Я кончился, а ты жива») – текстом, который будто бы «пишется автором после смерти». См.: Жолковский А. К. Поэтика Пастернака: Инварианты, структуры, интертексты. М.: НЛО, 2011. С. 317.
164
Любопытны естественные трудности, возникающие при переводе стихотворения из «Грамматики любви» на другой язык. С. Кржитски приводит два английских варианта. // Первый перевод принадлежит ему самому, там нет местоимения «ты» или какого-либо ему аналога, зато появляется «thus», «сие»: // The hearts of lovers are thus saying: «In legends joyful live your life!» To their offspring they are conveying These Grammar Rules, the rules of love. // Сердца любивших говорят сие: «В радостных преданьях живи // [свою жизнь]» // Другой перевод (его автор – В. G. Guerney) содержит местоимение (it), но оно тоже не соответствует «ты», поскольку может быть отнесено к любому неодушевлённому «нечто», но не к липу. // But – «Live thou in legends of Love's // bliss!» // Shall greet it hearts that with Love // strove; // And to their grandchildren show this // Grammar of Love. // Но: «Живи в преданьях любовного счастья!» // Это [высказывание] [согреет] своим приветом сердца, стремившиеся к любви; // Впрочем, В. G. Guerney, вероятнее всего, переводит первую редакцию «Грамматики любви». // См.: Kryzytski S. The Works of Ivan Bunin. P. 115.
165
Г. А. Гуковский так характеризует эпитеты сладкий/сладостный: // // Эпитет «сладкий», «сладостный», – стал одним из признаков стиля элегического, или психологического романтизма 1800–1820-х гг. Он повторялся буквально сотни раз в стихах как первоклассных поэтов, так и их учеников, – вплоть до эпигонов. Ему повезло, потому что он был типичным для системы, установленной Жуковским 〈…〉 В терминологической системе классицизма «сладкий» – это определение вкуса 〈…〉 Но в системе Жуковского 〈…〉 он стал обозначать всякое положительное отношение к миру (Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М.: Художественная литература, 1965. С. 61–62). // // Текст Бунина тонирован двояко: и в цвета более ранней поэзии XVIII в., и в цвета романтической поэзии, он, как и романтическая поэзия, перенасыщен «сладостью», поскольку кроме «преданий» есть еще и «сладостные воспоминания» в цитате из «Грамматики…».
166
К примеру, так переводит заглавие бунинской новеллы Anne-Flipo Masurel (См.: Bunin I. La Grammaire de l’amour. Sables Éditions, 1997).
167
Этим не исчерпывается анализ поэтического отрывка, любопытно добавить сюда еще и то, что ориентированное на книжную традицию разных веков четверостишие, сохраняет каким-то образом связь с народным стихом в духе, например, «волжских матеночек»: // Обещалися мы оба // Сохранить любовь до гроба // Обещанье мы не забыли // Ах! Злые люди нас разлучили.
168
В связи с «Грамматикой любви» С. Кржитски со ссылкой на P. Henry высказывает такую мысль: «Bunin creates a story ‘out of nothing’. Under his dispassionate pen, the treatment of purely lyrical, sentimental, almost Karamzin-like theme becomes a typical example of Bunin’s art “with his successful ‘alienation’ of the subject, and the controlled, but effortless, seemingly casual progress of action”» (Kryzytski S. The Works of Ivan Bunin… P. 116). («Бунин создает рассказ “из ничего”. Под его беспристрастным пером происходит характерная для Бунина метаморфоза: чисто лирическая, сентиментальная, почти карамзинская тема “отдаляется от повествователя, и изложение хода событий кажется естественным и ненадуманным”»).
169
Штерн М. С. В поисках утраченной гармонии (проза И. А. Бунина 1930–1940-х гг.). Омск: Изд-во ОмГПУ, 1997. С. 161–163.
170
Тема кинематографичености Бунина не раз поднималась в связи с замыслом писателя предложить «Господина из Сан-Франциско» для голливудского сценария. Рассказ Бунина так и не превратился в кинофильм, но известен ряд произведений, которые сам автор хотел бы видеть экранизированными. Это тексты, тяготеющие к повестям: «При дороге», «Дело корнета Елагина» (См.: Янгиров Р. «Страсть к обозрению мира»: Иван Бунин и кинематограф // Русская мысль. № 4290. 28 октября – 3 ноября 1999 г. С. 12–13). // В упомянутой у М. С. Штерн статье А. В. Разиной (Разина А. В. Кинематографичность – как стилевая особенность творческого почерка Ивана Бунина // И. А. Бунин и русская литература XX века: По материалам Междунар. конф., посвящ. 125-летию со дня рожд. И. А. Бунина. М.: Наследие, 1995. С. 258–267) сделана попытка оторвать идею кинематографичности от повествовательности, противопоставить кинематографичность повествовательности, показать, что кинематографическими средствами можно передать не только события и «исторический фон», но лирическую «картинность» «зримость» предметов и пейзажей (отсюда повышенная важность мотиваокна), «отпечатки», «эскизность», «недоговоренность». К сожалению, последнее, как считает А. В. Разина, оказалось затруднительным для кинематографистов, которые брались за экранизацию Бунина. Бунинская «кинематографичность» в интерпретации А. В. Разиной соответствует лирическому модусу его прозы.
171
Штерн М. С. В поисках утраченной гармонии (проза И. А. Бунина 1930–1940-х гг.)… С. 161–162.
172
Там же. С. 162.
173
«В организации сюжета, – пишет о “Зимнем сне” М. С. Штерн, – важную роль играют мотивы фантастической баллады: ожидание экстаординарного события, появление вестника, свидание у гроба, бесконечное снежное поле, бешеная скачка глухой зимней ночью» (Там же. С. 163).
174
В сюжете Вукола М. С. Штерн усматривает «очерковое начало» рассказа, вплетенное в балладно-сказочный контекст (Там же. С. 163).
175
Бунин И. А. Письма 1905–1919 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 408.
176
А также мотивы русской романтической лирики в стиле «Зимнего утра».
177
«Но особый пиетет вызывал в Бунине Жуковский 〈…〉 Он никак не мог примириться, что незаконный сын его деда от турчанки Сальмы не носит имя Василия Афанасьевича Бунина, а по крестному Василия Андреевича Жуковского. “А ведь не были бы придуманы «нелепые» узаконения, был бы поэт Буниным” – приговаривал он», – вспоминает о И. А. Бунине А. В. Бахрах (Бахрах А. В. Бунин в халате // Иван Бунин: Pro et Contra. СПб.: РХГИ, 2001. С. 196). Баллады Жуковского цитируются в художественных текстах Бунина, к примеру, в «Жизни Арсеньева»: // // Это моя первая зима в Батурине, и я еще чист, невинен, радостен – радостью первых дней юности, первыми поэтическими упоениями в мире этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, их стансов, посланий, элегий, баллад: // Скачут. Пусто все вокруг. // Степь в очах Светланы… (6; 210).
178
См.: Мерилай А. Вопросы теории баллады. Балладность // Поэтика жанра и образа. Труды по метрике и поэтике. Тарту: Тартуский университет, 1990. С. 3–21. Ссылаясь на В. М. Жирмунского, А. Мерилай также пишет о балладном нео-синкретизме (Там же. С. 7).
179
По признаку непереводимости Ю. Н. Чумаков сближает сон и лирику, непереводимость сна обеспечена тем, что он не имеет реального денотата, не «достигает степени феномена», а формируется исключительно во внутреннем, укромном пространстве (Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М., 2010. С. 48). В итоге сон намечает и расширяет границы внутреннего мира, увеличивая напряжение между внутренним и внешним. Примерно в том же направлении, но в более общем ракурсе исследовано безумие в одной из книг М. Фуко. Вот что пишет М. Фуко по поводу древнего, архетипического сюжета «Корабль дураков»: «Плаванье сумасшедшего означает его строгую изоляцию и одновременно является наивысшим воплощением его переходного статуса 〈…〉 Для внешнего мира он – внутри, для внутреннего – вовне» (Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 33).
180
Виролайнен М. Н. «Я» и «не-я» в поэтике Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. СПб.: Наука, 2003. Т. XVI–XVII. С. 94.
181
Там же. С. 97.
182
См.: Виролайнен М. Н. «Я» и «не-я» в поэтике Пушкина. С. 94–101.
183
Принципиальный пропуск «ты» в лирике отодвигает от этого рода литературы проблему диалога, коммуникативности, любое «ты» обязательно вмещается в «я». Вместо «ты» на первый план выходит и становится вровень с «я» весь мир в своей скульптурной объемности.
184
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. С. 60.
185
Бибихин В. В. Грамматика поэзии. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. С. 134–136.
186
О «балладности» у Бунина см., например: Штерн М. С. В поисках утраченной гармонии… С. 163; Атаманова Е. Т. И. А. Бунин и В. А. Жуковский (К проблеме реминисценций в творчестве И. А. Бунина) // Творчество И. А. Бунина и русская литература XIX–XX веков. Белгород, 1998. С. 3–6; Анисимова Ε. Е. Жуковский и Бунин: эволюция образа зеркала в русской литературе XIX – начала XX веков // Филология и человек. Барнаул, 2010. № 2. С. 66–78; АнисимоваЕ. Е. «Душа морозная Светланы – в мечтах таинственной игры»: эстетические и биографические коды Жуковского в рассказе Бунина «Натали» // Вестник Томского университета. Сер. Филология. 2011. № 2. С. 78–84; Анисимова Е. Е. Традиции В. А. Жуковского в мотивной поэтике И. А. Бунина: от лирики к публицистике // Вестник Новосибирского университета. Сер. История, филология. 2012. Т. 11. Вып. 2. С. 167–171.
187
Поэтика рассказа «В некотором царстве» предвосхищает сверхмалые формы 1930 г., среди которых «Ландо», «Телячья головка», «Роман горбуна», «Первая любовь», «Петухи», «Распятие», «Канун» и др.
188
«Некоторое царство», «царство» – это один из повторяющихся мотивов у Бунина, который имеет в текстах Бунина разную степень определенности/неопределенности. Ср. гораздо более определенный контекст «царства» в «Жизни Арсеньева»: // …или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминовение «благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича», – почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, «мирного и благоденственного жития», высится русская корона (6; 64). // Близки рассказу «В некотором царстве» зимние, рождественские, перенасыщенные пушкинскими цитатами пейзажи «Иды» (1925), а предваряется сюжет об Идее и композиторе тем же присловьем, что и в заглавии рассказа 1923 года: «Друзья мои, вот эта история. В некоторое время, в некотором царстве…» (5; 248).
189
Цветаева М. И. Об искусстве. М.: Искусство, 1991. С. 332–333.
190
Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л.: Советский писатель, 1977. С. 135.
191
Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем в 20 т. М.: Языки славянских культур, 2008. Т. 3. С. 13.
192
Россия у Бунина нередко обрисована как спящая или засыпающая страна, а в послереволюционном творчестве часто олицетворяется в образе спящей, засыпающей, мертвой или умирающей героини, которую видит во сне герой.
193
Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч. в 11 т. М.: Слово/Slovo, 2004–2005. Т. 2. С. 61.
194
«– Отойдите за ради Господа. Того гляди, старуха зайдет… // – Какая старуха? // – Да старая горничная, будто не знаете!» (7; 95).
195
Условность любых письменных посланий в художественном тексте может быть проиллюстрирована примером из «Онегина», где, как отмечено Ю. Н. Чумаковым, письмо Татьяны находится одновременно у Онегина («Та, от которой он хранит / Письмо…») и у Автора («Письмо Татьяны предо мною…»). Ю. Н. Чумаков объясняет подобные «противоречия» «альтернативностью» модальностей онегинского текста (см.: Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. В мире стихотворного романа. М.: МГУ, 1999. С. 106). Альтернативная модальность свойственна и лирической прозе Бунина, и хотя у Бунина речь, возможно, идет вообще о разных телеграммах, но покров сна, которым окутан рассказ, позволяет соединить два этих послания – недочитанное/неполученное и недописанное/неотправленное.
196
Причем лошади, на которых едут тетка и племянница, описаны столь детально и с такого близкого расстояния, что кажется, будто сам рассказчик, Ивлев, сидит в санях вместе с племянницей и теткой, а ведь ранее он видит себя одного «в дороге в глухой России, глубокой зимой». Таким образом, сани Ивлева то ли нагоняют сани тетки и племянницы, то ли теряются, а точка зрения рассказчика, приблизившись вплотную к героиням, приобретает некоторую неопределенность: «Он видит» в третьем абзаце сменяется на «И это радует», и субъект «радости», возможно, уже не «он», Ивлев, и даже не племянница, субъектное поле глагола «радует» – это сложный синтез. Далее в тексте статьи об этом еще будет идти речь.
197
Рассказ «Пингвины» 1929 г. тесно перекликается с «Некоторым царством» во многих художественных приемах и мотивах, «Пингвины» – это тоже сон с плотным пушкинским подтекстом, с многочисленными ложными пробуждениями, с балладной ездой на лошадях («И лошади бегут как-то не в меру ровно, и ямщик на облучке так неподвижен и безличен, что я его даже плохо вижу, – и только чувствую и опасаюсь, потому что бог его знает, что у него на уме» (5; 392)), с неожиданными переключениями планов.
198
То же неопределенное субъектное поле обнаруживает себя и в других фрагментах рассказа, см. сн. 63.
199
О лирической концентрации как об одном из конституирующих качеств лирического текста пишет Т. И. Сильман. См.: Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л.: Советский писатель, 1977. С. 6, 10 и др.
200
Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 95.
201
Интонирование Б. Эйхенбаум связывал с «мелодикой стиха», отмечая при этом, что «развитая интонационная система может придать стиху действительную мелодичность, не соединяясь с эффектами инструментовки и ритма 〈…〉 ритмическая подвижность… скорее противоречит принципу мелодизации, чем помогает ему» (Эйхенбаум Б. Мелодика стиха. Петербург: Общество изучения теории поэтического языка, 1922. С. 10).
202
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010. С. 61.
203
См.: Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета.
204
Вокативное «Барышня!» окликает не только героиню, но и весь текст рассказа, поскольку в ответ на этот зов текст разворачивается по-новому, открывая лицо своей главной героини, у которой нет даже имени. Вместе с окликом племянница «изымается» из всего предшествующего контекста, перестает быть равновеликой ему и выходит на первый план, и все последующие части рассказа посвящены уже только ей. И теперь отсутствие имени придает образу племянницы абстрактность, символичность и обобщенность, которыми обладает все «некоторое царство», она сама становится «некоторым царством» в душе Ивлева. Из безымянной неизвестной (а тема незнакомки – одна из любимых у Бунина, см. рассказ «Неизвестный друг») племянница становится сразу всем.
205
Это видно, к примеру, по рукописи рассказа «Неизвестный друг», где в письме героини от 22 октября был такой отрывок: «Помните ли Вы эти несравненные строки: “В 〈нрзб.〉, едва проснувшись, я отворил окно” – Тотчас же мне захотелось любить, я даже чувствовала любовь к себе…» (РГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. 7, л. 12). В окончательном тексте это окно исчезнет вместе с цитатой.
206
Чехова М. П. Из далекого прошлого // Вокруг Чехова. М.: Правда, 1990. С. 357.
207
Позже Бунин повторит эту деталь в «Балладе», описывая предрождественские хлопоты в старинной русской усадьбе: «Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, от топки скоро сохнущие, а потом застелили их чистыми попонами…» (7; 17).
208
См. об этом: Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. С. 52–55.
209
Баак Й. ван. Событие и событийность. Некоторые когнитивные наблюдения и художественные казусы // Событие и событийность. М.: Изд-во Кулагиной. Intrada, 2010. С. 87–88.
210
Можно вспомнить здесь один «литературный» диалог Лики и Арсеньева с фразой «это… был я сам» в кавычках: // Она внимательно слушала. Потом вдруг спрашивала: // – А скажи, зачем ты прочел мне это место из Гете? Вот, как он уезжал от Фредерики и вдруг мысленно увидал какого-то всадника, ехавшего куда-то в сером камзоле, обшитом золотыми галунами. Как это там сказано? // – «Этот всадник был я сам. На мне был серый камзол, обшитый золотыми галунами, какого я никогда не носил». // – Ну да, и это как-то чудесно и страшно… (6; 261).
211
Карпенко Г. Ю. Творчество И. А. Бунина и религиозно-философская культура рубежа веков. Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии, 1998. С. 32.
212
РГАЛИ. Ф. 44 оп. 2 ед. хр. 58. Л. 1, 2.
213
Вместо этой реплики в черновике следует другая: «…кто-то весело подхватил: // – Мне, знаете, также участь Феникса не кажется завидной», в чистовике переадресованная мужу главной героини (РГАЛИ. Ф. 44 оп. 2 ед. хр. 58. Л. 2).
214
Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Современник, 1991. С. 22.
215
Преображение «некоторого царства» в Россию, конечно, вписывается в общий контекст творчества Бунина, у которого многие «сказочные» зачины и неопределенные локусы («некоторое царство») одновременно опознаются как совершенно конкретные русские места. Сочетанию локальной неопределенности с локальной конкретикой вторит нередкое у Бунина соединение в пределах одного текста реальных топонимов и условно-поэтических локальных наименований. См. об этом: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2005.
216
От житийного мученичества мало чем отличаются, по словам Катерины, ночи «батюшки Родиона»: «и в полночные часы непрестанно осаждают его звери воющие, толпы мертвецов яростных и диаволов» (4; 366), но происходит все это не на страницах священных книг, а в лесной хижине за «недальней женской обителью».
217
Киево-печерские страстотерпцы названы среди тех святых, жития которых читает Арсеньев (см. сноски 8, 9).
218
В «Аглаю» вошли не только любимые жития Алексея Арсеньева, но и любимые бунинские жития, к которым писатель неоднократно обращался в стихах и прозе: Св. Евстафий, Св. Прокопий (правда, в «Аглае» названо два разных Прокопия), Матфей Прозорливый. Об этом, а также о влиянии, оказанном на Бунина «Житиями святых» И. Бухарева, см.: Скрипникова Т. И. Образы святых в творчестве И. А. Бунина // Творчество И. А. Бунина и философско-художественные искания на рубеже XX–XXI веков: Материалы международной конференции, посвященной 135-летию со дня рождения писателя. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2006. С. 110–116.
219
Один из пассажей «Жизни Арсеньева» посвящен именно «житийным» чтениям Арсеньева (гл. XVIII первой книги): «И вот я вступил ещё в один новый для меня и дивный мир: стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорог мне, живо напоминающим ту странную зиму; мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными власами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру, Мария Египетская, о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слёз и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола… Я жил только внутренним созерцаньем этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своём сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из верёвочных обрывков нечто вроде власяницы, пил только воду, ел только чёрный хлеб… И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить – как-то само собой. Пошли солнечные дни 〈…〉 Настал апрель, и в один особенно солнечный день стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы, наполняя весь дом оживленьем, беспорядком, всюду соря сухой замазкой и паклей, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой, молодой жизни» (6; 45). Эта глава завершает в романе отрывок о первом большом горе Арсеньева – смерти сестры Нади, за ней и последовала зима «страданий», «самоизнурений» и «самоистязаний». Автоперсонаж «Жизни Арсеньева» будто бы проигрывает одну из Бунинских вариаций, уже написанную в «Аглае». Аглая, таким образом, умножается в Арсеньеве, и на фоне автобиографического романа тоже начинает восприниматься как один из образов многоликого бунинского авторского «я». // Тема житийного чтения и самоистязаний Арсеньева входит в еще более обширный – историософский тематический блок. Чуть раньше, в XVI главе, можно прочесть такой пассаж: «Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистребленью. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, всё-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а своё безделье, дрёму, мечтательность и всякую неустроенность оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пядь земли от соседа помещика, и без того с каждым годом всё скудевшего?» (6; 41). Два приведенных здесь отрывка прочитываются как мотивная и историософская квинтэссенция «Аглаи» с темами жизни/смерти, зимы/весны, житийного чтения, самоотреченности/ самоистязаний и их исторического выхода.
220
Позже эпоха Ивана Грозного («Ивана») со свойственными ей коннотациями азиатского (татарского), бунтовского, «лютого», разгульного активно осмыслялась русской эмиграцией в параллели к революционной истории XX в. См. об этом: Янгиров Р. М. Парижский спор об «Иване» и о «русской слякоти»: советский кинематограф в восприятии литераторов русского зарубежья в 1920-е–1940-е годы // Русская литература конца XIX – начала XX века в зеркале современной науки. М.: ИМЛИ, 2008. С. 341–370.
221
На «языческое» происхождение фамилии (от слова «шкура») обратила внимание Т. Ю. Яровая. (Яровая Т. Ю. Религиозные мотивы и авторский подтекст в рассказе И. А. Бунина «Аглая» // Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве. СПб.: МИРС, 2008. Т. 2. Ч. 1. С. 306).
222
Обзор темы снов см.: Яровая Т. Ю. Религиозная проблематика в рассказе И. А. Бунина «Аглая» // Проблемы целостного анализа художественного произведения. Борисоглебск, 2007. Вып. 7. С. 85–86.
223
Курсив наш. – Е. К.
224
Подробнее об этом, самим Буниным прокомментированном, мотиве иконописности см.: Чуньмэй У. Портреты старца и странника в рассказе И. А. Бунина «Аглая» // Творчество И. А. Бунина и философско-художественные искания на рубеже веков. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2006. С. 130.
225
См. об этом: Колосова С. Н. «Ночь отречения», «Святитель» И. А. Бунина: образ главного героя и особенности сюжета // Пасхальные чтения. М., 2004. С. 158–164; Чуньмэй У. Портреты старца и странника в рассказе И. А. Бунина «Аглая»… С. 131. Яровая Т. Ю. Религиозная проблематика в рассказе И. А. Бунина «Аглая»… С. 86.
226
Скрипникова Т. И. Образы святых в творчестве И. А. Бунина // Творчество И. А. Бунина и философско-художественные искания на рубеже XX–XXI веков… С. 115. Т. И. Скрипникова идет вслед за О. А. Бердниковой, но у О. А. Бердниковой та же позиция выражена мягче и оттеночнее: // В судьбе Аглаи для писателя важен был и феномен добровольного принятия смерти, которую «по молитве и святому размышлению» «повелел принять» старец Родион, явившийся, как и Катерина, проводником Божьей воли. Тайна смерти, сознательная готовность к ней Аглаи так возвеличивает ее, делает ее в глазах автора-повествователя истинно святой, «заклявшей» «хаотическое царство смерти» (Е. Трубецкой). (Бердникова О. А. Жизнь и житие в прозе И. А. Бунина // И. А. Бунин в диалоге эпох. Воронеж: ВГУ, 2002. С. 14).
227
Пращерук Н. В. «Аглая» и «Чистый понедельник» Ивана Бунина: трансформация темы религиозного призвания // Литература русского зарубежья. Тюмень: Изд-во ТГУ, 1998. Ч. IV. С. 9. Так же неоднозначно трактуется образ Родиона и в работах Т. Ю. Яровой.
228
Эти, часто цитируемые по поводу «Аглаи» слова Бунина, приведены в дневнике Г. Кузнецовой (Кузнецова Г. Грасский дневник. СПб.: «Издательский дом Мiръ», 2009. С. 237).
229
Кузнецова Г. Грасский дневник. С. 237.
230
«И она никогда не просила почитать еще: всегда непонятная была она» (4; 362) – так характеризуется у Бунина героиня. В диалоге сестер всегда ведет Катерина, она читает о святых, рассказывает о старце Родионе, толкует сны Анны, а Анна всегда молчит или отстраненно и неопределенно отвечает на вопросы («А думаешь ты о чем?» – «Так я не знаю» (4; 362)). И лишь один вопрос Анна задает сама, может, усомнившись в святости о. Родиона, но не высказав своих сомнений: «А что же батюшка Родион не юродствовал?» (4; 365).
231
Яровая Т. Ю. Религиозные мотивы и авторский подтекст в рассказе И. А. Бунина «Аглая»… С. 305.
232
В ходе работы над рассказом Бунин исключил из библиотеки житий два фрагмента, которые касались как раз смирения плоти: один из описанных Буниным в черновике киево-печерских подвижников «садился, обнаженный по пояс, на холодную землю, дрожа от лесной сырости и до рассвета сучил кудель, в кровь заедаемый несчетными комарами», другой святой «ради девства своего живым зарылся в землю выше пояса, и стоял, не единым суставом не двигая, чувствуя, как ноги его перегорают в земле, дышащей пламенем, поглощая своей пастью главу его» (РГАЛИ. Фонд 44, оп. 2, ед. хр. 48. Л. 10). Отметим и здесь мотив огня.
233
Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Современник, 1991. С. 60.
234
Там же. С. 65. Лейтмотив похорон проходит через все «Окаянные дни». Олицетворением мертвой страны в образе покойника «Окаянные дни» и завершаются.
235
На Ленотра как на источник рассказа «Богиня Разума» указывает А. К. Бабореко (Бунин И. А. Богиня Разума. Предисловие А. К. Бабореко // Литературное наследство. М.: Наука, 1973. Т. 84. Кн.1. С. 79–87).
236
Там же. С. 85.
237
Ленотр Ж. Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 33.
238
Там же. С. 56.
239
И. Одоевцева в своей второй мемуарной книге сохранила диалог с Буниным о рассказе «Богиня Разума»: // – Меня всегда, как ни странно, тянуло к кладбищам 〈…〉 Сколько я их на своем веку перевидал. И даже писал о них. Помните мой рассказ о могиле Терезы-Анжелики Обри – богини Разума? // – Да, я помню. Я ходила на Монмартрское кладбище и отыскала ее, прочитав ваш рассказ. // – Вот это хорошо, – одобряет он. – Если даже не ходили, а только сейчас выдумали, чтобы доставить мне удовольствие, то и это хорошо. // – Нет. Честное слово, ходила. Он кивает. // – Что ж, верю… (Одоевцева И. В. На берегах Сены. М., 1989. С. 271).
240
«Рассказ строится на резком контрасте жизни и смерти», – пишет об «Огне пожирающем» О. В. Сливицкая. (Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 103).
241
Здесь и далее курсив наш. – Е. К.
242
В «Аглае» мотив неожиданной смерти обыгрывается словом «приуготовление»: «Знаю, знаю, сестра тебя приуготовила» (4; 367), – приговаривает Родион, избирая Аглаю на смерть. Только «приуготовление» это – одна из ловушек текста, поскольку чтения житий должны были готовить Анну к подвигу веры, а не к смерти. Внезапность, неожиданность заключается в том, что благие приуготовления оказались зловеще-смертными.
243
Здесь и далее курсив наш. – Е. К.
244
Отдельные мотивы, окружающие в «Жизни Арсеньева» смерть Писарева, появляются в разных, порой совершенно неожиданных, местах романа, как бы продляя смерть Писарева, все время возобновляя память о ней. Так, после похорон Писарева «возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку» (6; 115), позже ассоциация с этим сложенным в сундук дворянским мундиром возникает в главе о похоронах В. К. Николая Николаевича в Антибе. Прежде чем войти в дом, где стоит гроб с телом Великого Князя, Арсеньев видит: «вдруг теряюсь: внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже целых десять лет и что поражает меня как чудодейственно воскресшая вдруг передо мной и вся моя прежняя жизнь: светлоглазого русского офицера в гимнастерке, погонах» (6;188). Эти «фуражки, клинки и погоны» (6; 190) траурного караула, «уже десять лет не виденные» (6; 190) Арсеньевым, как будто вытащены из того самого сундука, куда был уложен после похорон дворянский мундир Писарева. Ради похорон Великого Князя траурный караул будто бы сам встает из могилы.
245
Вся глава посвящена описанию противоречивых мыслей и чувств Николеньки у гроба матери: «Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие… Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение 〈…〉 Я понял, отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне горькую правду и наполнила душу отчаянием». (Толстой Л. Н. Детство // Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 тт. М.: Гос. изд-во худож. лит-ры. Т. 1. С. 111–113).
246
«Мессианическое время» Дж. Агамбен называет также «оперативным временем», в которое мы «схватываем и исполняем наше представление о времени», «время, которым мы являемся», «единственным реальным временем, которое мы имеем» (Агамбен Дж. Apóstolos (Из книги «Оставшееся время: Комментарий к “Посланию римлянам”») // НЛО. 2000. № 46. С. 51–53.)
247
Марченко Т. В. Парижский текст Ивана Бунина: прелюдия в лунном свете // Revue des études slaves. T. 85. 2014. № 1. P. 165–166.
248
Там же. P. 167–169.
249
Там же. P. 175.
250
Устами Буниных. М.: Книга по Требованию, 2012. Т. 2. С. 85.
251
«Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня» (7; 37), «И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду» (7; 40), «И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно…» (7; 40), «Как поздно и как немо!.. Ветер стих к предрассветному часу» (7; 42) (Здесь и далее в текстах Бунина курсив наш. – Е. К.). // Лирическая природа «Позднего часа» подробно исследована в работе В. П. Скобелева, где, в частности, отмечена и прокомментирована серия подобных «позднему часу» повторов: «Дважды отмечается августовская трава – при описании свидания в саду говорится про “заросшую сухими травами дорожку”, потом, в сцене на кладбище, вновь упоминается “сухая трава”. Дважды упоминается мост, проходя по которому, герой-повествователь попадает в уездный город, говорится и про один из парижских мостов через Сену. Дважды автор считает нужным упомянуть, что она и он во время ночного пожара взялись за руки. Систематически повторяющиеся эпически значимые, тяготеющие к объективированной наглядности детали… становятся именно в своей повторяемости экспрессивно значимыми, подобно рефрену в поэзии» (Скобелев В. Н. К соотношению эпического и лирического в сюжетно-композиционной системе бунинской новеллы эмигрантского периода («Поздний час») // Русское зарубежье – духовный и культурный феномен. Международный сборник научных статей. М.: Московская академия образования Натальи Нестеровой, 2003. Вып. 1. С. 32–33). Кроме лексических, у В. Н. Скобелева приведены синтаксические и грамматические повторы в тексте рассказа.
252
О том, что «сейчас» июль, мы узнаем из следующих строк: «в месячном свете июльской ночи» (7; 37), «от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня» (7; 37).
253
См., например: Лушенкова А. Иван Бунин и Марсель Пруст: «непроизвольная» и «чувственная» память // Метафизика И. А. Бунина: Сб. науч. трудов, посвященный творчеству И. А. Бунина. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. Вып. 2. С. 43–58; Таганов А. Н. Иван Бунин и Марсель Пруст: потаенное сродство // Потаенная литература. Исследования и материалы. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2000. Вып. 2. С. 107–116.
254
«Восприятие никогда не бывает простым контактом духа с наличным предметом: оно всегда насыщено дополняющими и интерпретирующими его воспоминаниями-образами. Воспоминание-образ, в свою очередь, причастно к “чистому воспоминанию”, которое оно начинает материализовать, и к восприятию, в которое он стремится воплотиться: рассматриваемое с этой последней точки зрения, оно может быть определено как рождающее восприятие. Наконец, чистое воспоминание (несомненно, независимое de jure), как правило, появляется только в окрашенном и живом образе, который его обнаруживает» (Бергсон А. Материя и память // Собр. соч. в 4 т. М.: «Московский клуб», 1992. Т. 1. С. 243).
255
См.: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2005. С. 144–145.
256
Реальный Троицкий монастырь в Ельце был основан на несколько десятилетий раньше венчания на царствие Алексея Михайловича, но расцвел и укрупнился именно в середине XVII в. См.: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина… С. 125.
257
См., например, карту из частного собрания В. А. Заусайлова: электронный ресурс http://eletskraeved.ru/karty/starinnaya-karta (дата обращения 01.07.2013).
258
О Ельце в этом тексте см.: Бабореко А. К. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М.: Худож. лит., 1983. С. 14.
259
Устами Буниных… Т. 2. С. 35–36.
260
Монастырская улица, действительно, была в старом Ельце, но она лежит в стороне от тех мест, что описываются в рассказе. Здесь же «Монастырской» названа главная улица Ельца, в реальности – Орловская (ныне Коммунаров), которая в других произведениях Бунина называется не только «Долгой», как в «Жизни Арсеньева», но еще и «Соборной» или «Острожной». См.: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина. С. 125.
261
Аналогичные «зримые детали» встречаются и в других текстах Бунина, к примеру, в «Визитных карточках» и «Солнечном ударе», где пароходы причаливают к пристани в городах, название которых мы не знаем, но описание Бунина таково, что читатель может точно определить, что пароходы причаливают к правому берегу Волги. Топографическая точность и в то же время поэтическая обобщенность неназванного локуса позволяет видеть в этом парадоксальном сочетании характерную примету бунинского стиля.
262
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010. С. 74. Для Ю. Н. Чумакова, как и для нас в данном случае, важна лирическая природа стихотворного романа.
263
Подобных моментов взгляда на себя со стороны, «неузнавания» себя самого, нового, давнего, много в «Жизни Арсеньева», особенно это касается любимых Буниным сцен перед зеркалом. Вот один из примеров: «Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо 〈…〉 Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал (как посторонний) свою привлекательность, – в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то грустное, – свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое, осмысленное выражение: внезапно увидал, одним словом, что я уже не ребенок» (6; 29). Коллизию умножения разных «я» и в то же время ментальной непрерывности «я» видит в этом бунинском мотиве Е. К. Созина. См.: Созина Е. К. «Стадия зеркала» в творчестве И. А. Бунина // Художественная литература, критика и публицистика в системе духовной культуры. Тюмень, 1997. Вып. 3. С. 62–66.
264
Устами Буниных… Т. 3. С. 49.
265
Об этом: Быков Д. Лекция «Поэзия в прозе. Иван Бунин» (25 сентября 2011 г.) Электронный ресурс: http://www.youtube.com/watch?v=IXHGG5yEUn8 (дата обращения 07.12.2013).
266
Аналогичный пример можно видеть, к примеру, в рассказе «Зимний сон», где главный герой, Ивлев, видит во сне учительницу, и далее все происходящее с учительницей и Ивлевым направляется уже не волей Ивлева, а будто бы учительницей, но при этом учительницу Ивлев видит во сне.
267
«Всевиденье», детальность, скульптурность и пластичность образов – характерное качество прозы Бунина, о которой, к примеру, В. Вейдле пишет: «Все исполнено, все сотворено. Точно из первозданной глины вылеплены навек и толстая спина офицера “во всей его воинской сбруе”, и “непорочно-праздничное платьице” Лики на балу, и ее “озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки”, и пугающий бедного Костеньку старухин мопс, “раскормленный до жирных складок на загривке…”» (Вейдле В. На смерть Бунина // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е – 1950-е годы): Антология. М.: Книжница, Русский путь, 2010. С. 485).
268
О звездах у Бунина – см.: Тер-Абрамянц А. П. Созвездия Ивана Бунина (Образы звездного неба в творчестве Бунина) // И. А. Бунин и русская литература XX века. М., 1995.
269
Сириус, его восход, положение на небосклоне, перемены его зелено-голубых оттенков, постоянно занимают Бунина, что видно не только по прозе или стихам, но и по дневниковым записям: // Проснулся в 4 часа, вышел на балкон – такое божественное великолепие сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них (ночью с 28 на 29 Авг. 23 г.) // (Устами Буниных… Т. 2. С. 118.) // Позавчера поразила ночь, – оч. мало звезд, на юге невысоко лучистый, но очень ясно видный голубыми брил[лиантами] играющий (только он один) Сириус (15. XII. 40); // // …ночью: луна оч. высоко, небо пустое, огромн., на юго-в. лучисто играет чистый голубой бриллиант Сириуса (25.I.41). // (Устами Буниных… Т. 3. С. 84, 75, 79).
270
Уместно еще раз вспомнить «длинную могилку прекрасную» (4; 368) из рассказа об Аглае.
271
Пушкин А. С. Сочинения. Л.: Художественная литература, 1936. С. 419.
272
Правда, в живом Ельце, в счастливую ночь свидания даже этот свет греет: «задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете» (7; 40).
273
«На усиление субъективного начала в сюжете повествования работает и применяющийся в “Позднем часе” принцип неопределенности, составляющий, как известно, один из основополагающих признаков лирического рода, лирического мышления» (Скобелев В. П. К соотношению эпического и лирического в сюжетно-композиционной системе бунинской новеллы эмигрантского периода («Поздний час»)… С. 33).
274
Устами Буниных: Т. 1. 1881–1921. М.: Книга по требованию. С. 20.
275
Жуковский В. А. Сочинения. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1954. С. 92.
276
Устами Буниных… Т. 2. С. 84.
277
Жуковский В. А. Сочинения. С. 199.
278
«Большая Выра, изобильная водою и глубокая при мельничных плотинах, не протекает собственно в Мишенском, а, прихотливо извиваясь, омывает вблизи сочные, богатые могучей растительностью луга этого села, прилегающие к Большой Болховской (Орловской губернии) дороге и изобилующей своими преданиями Васьковой горе», – пишет о расположении Мишенского П. М. Мартынов (См.: Мартынов П. М. Село Мишенское, родина В. А. Жуковского // В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М.: Наука, школа «Языки русской культуры», 1999. С. 488).
279
Обратим внимание на некоторое сходство зачинов «Несрочной весны» и «Письма»: «А еще, друг мой…», «Еще пишу вам…».
280
Рассказы о бесследном исчезновении людей из «Несрочной весны» («Я спросил: “А если пешком?” – “А вам далеко?” – “Туда-то” – “Ну, это верст двадцать, не более. Дойдете”. – “Да ведь, говорю, по лесу да еще пешком?” – “Что ж, что по лесу! Дойдете”. И тут же рассказал, как весной два каких-то “человечкя” наняли так-то “мужичкя” в ихнем селе, да и пропали вместе с ним: “Ни их, ни его, ни лошади, ни снасти… Так и неизвестно, кто кого растерзал – они его или он их”» – 5; 120) вторят множеству подобных историй из «Окаянных дней», в обоих случаях Бунин старается подчеркнуть их изустную стилистику: «Приехал Д. – бежал из Симферополя. Там, говорит, “неописуемый ужас”, солдаты и рабочие “ходят прямо по колено в крови”. Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке». (Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1991. С. 11).
281
См., например: Ермоленко Г. Н. Образ «темной аллеи» в новелле Ивана Бунина «Зойка и Валерия» // Dzieło literackie jako dzieło literackie. Bydgoszcz, 2004. С. 303.
282
См. напр.: Гаевский В., Гершензон П. Разговоры о русском балете: Комментарий к новейшей истории. М.: Новое издательство, 2010. С. 25–26, 47, 76 и др.
283
Теоретическое обоснование бунинской вариативности см.: Силантьев И. В. Сюжетологические исследования. М.: Языки славянских культур, 2009. С. 36–68.
284
Боратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1989. С. 76.
285
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе / Подг. И. М. Семенко. М.: Наука, 1977. С. 110.
286
Там же. С. 518–519.
287
Рассказик «Несрочной весны» пишет своему адресату: «у вас в Европе…» (5; 118).
288
Посвященные маркизе стансы Вольтера «A m-me du Chatelet» (1741) в 1817 г. переводил Пушкин, мотивы предзакатного расцвета, перед которым меркнет неопытная красота, есть в батюшковском «Тебе ль оплакивать утрату юных дней…», пушкинском «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…», чувствуются они и в образе «гробовой Афродиты» Боратынского.
289
Красота и любовь рядом со смертью, пробуждающиеся гробницы, – постоянные элегические темы в «Опытах…» Батюшкова.
290
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 111.
291
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 111.
292
Там же. С. 112.
293
Как раз во время работы над «Путешествием в замок Сирей» Батюшков служил в Императорской публичной библиотеке, куда полвека спустя и была передана библиотека Вольтера. См.: Батюшков К. Н. Избранная проза / Сост., послесл. и примеч. П. Г. Паламарчука. М.: Сов. Россия, 1988. С. 477.
294
В ритме этого бунинского четверостишия можно услышать и фольклорные, частушечные призвуки. Несколько «выровнять» ритм, перевести его из «народного» в сугубо «литературный» формат можно, разбив его не на 4, а на 6 стихов: // // Успокой мятежный дух // И в страстях // Не сгорай, // Не тревожь меня, пастух, // Во свирель // Не играй.
295
Батюшков К. Н. Избранная проза. С. 105–106.
296
Там же. С. 110.
297
В том же году, что и «Путешествие в замок Сирей», Батюшков под влиянием идей А. Н. Оленина пишет свой наиболее известный «музейный» текст – «Прогулку в Академию художеств». Как и «Путешествие…», «Прогулка…» написана в форме письма «другу-затворнику» в провинцию.
298
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 105.
299
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 111.
300
Это характерный для Бунина прием, он использован и в «Чистом понедельнике», на последних страницах которого В. К. Елизавета Федоровна замещает собой главную героиню рассказа, он чувствуется и в «Жизни Арсеньева» в связи с темой В. К. Николая Николаевича.
301
Прибавим еще, что одно из стихотворений Анны Буниной 1808 г. «Сумерки» обращено к Державину: лирическая героиня в мечтах посещает Званку и встречается там с великим поэтом.
302
Тарле Е. В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг (1769–1774). Электронный ресурс: http://fot.com/publications/books/shelf/senyavin2/ush7.htm (дата обращения 15.07.2013).
303
Беглая поэтическая квинтэссенция Жития Евстафия Плакиды есть и в бунинском рассказе «Аглая»: «Так узнала Анна 〈…〉 о воине Евстафии, обращенном к истинному Богу зовом Самого Распятого, солнцем просиявшего среди рогов оленя, им, Евстафием, на зверином лове гонимого» (4; 363).
304
В «Несрочной весне» не случайно упомянуто Васильевское, имение родственников Бунина Пушенниковых, где писатель подолгу жил; речь об этом пойдет ниже.
305
Об этимологии топонима «Елец» см.: Краснова Т. В. Российская топонимия в художественной прозе И. А. Бунина. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2005. С. 151–157.
306
Кроме того, сияющий лакированный пол, на который смотрит и Оля Мещерская, и начальница, – атрибут роскошного интерьера кабинета начальницы в «Легком дыхании»: // … сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытсвом посмотрела Мещерская, подняла глаза (4; 357).
307
Есть еще один текст, поэзией затерянного поместья напоминающий и «Грамматику любви», и «Несрочную весну», и «Жизнь Арсеньева» – рассказ 1903 г. «Золотое дно», в котором герой приезжает в угасающую усадьбу Батурино (так же названа в романе родная усадьба Арсеньева). «Золотое дно» начинается с дважды повторенного элегического заглавия Боратынского – «запустение»: «Тишина – и запустение. Не оскудение, а запустение…» (2; 278). // «Золотое дно» следует считать одной из первых прозаических вариаций элегической темы мертвого поместья: // Еще мрачнее в этих пустых комнатах! Первая, в которую я заглядываю из коридора, была когда-то кабинетом, а теперь превращена в кладовую: там ларь с солью, кадушка с пшеном, какие-то бутыли, позеленевшие подсвечники… В следующей, бывшей спальне, возвышается пустая и огромная, как саркофаг, кровать 〈…〉 А я медленно прохожу в большой гулкий зал, где в углах свалены книги, пыльные акварельные портреты, ножки столов 〈…〉 я отступаю к стеклянной двери на рассохшийся балкон, с трудом отворяю ее – и прикрываю глаза от низкого яркого солнца. Какой вечер! Как все цветет и зеленеет, обновляясь каждую весну, как сладостно журчат в густом вишеннике, перепутанном с сиренью и шиповником, кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнезд (2; 282).
308
Поэтические неологизмы Боратынского, по наблюдению С. Г. Бочарова, нередко помечены «отрицательным знаком» (см.: Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985. С. 69–70). Выбор печального «элизийского» слова с отрицательной приставкой, вероятнее всего, не случаен заглавии Бунина. Три из пяти рассказов Приморских Альп включают морфемы отрицания или неопределенности: «Неизвестный друг», «В некотором царстве», «Несрочная весна».
309
Боратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. С. 176.
310
Топоров В. Н. Встреча в Элизии: Об одном стихотворении Баратынского // Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана / Stanford Slavic Studies. Stanford, 1994. Vol. 8. P. 197–222.
311
Боратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. С. 177. У Бунина «несрочная весна» в цитате из Боратынского выделена курсивом, что усиливает ощущение композиционного кольца: рассказ об июльском путешествии в провинцию начинается и заканчивается «несрочной весной». И вообще связка мотивов весны, смерти и кладбища очень характерна для Бунина (см. главу IV настоящей книги – «Бунинский тезаурус смерти»).
312
См.: Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М.: НЛО, 1998. С. 5. См. также художественную, тесно сплетенную со множеством серьезных исторических событий XVIII в. летопись рода Боратынского и подробное описание имения Мара в кн.: Песков А. М. Боратынский. Истинная повесть. М.: Книга, 1990.
313
Высказываясь о «Запустении Боратынского», И. Бродский тоже обращает внимание на финальную часть элегии: «я бы сказал, что лучшее стихотворение русской поэзии – это “Запустение”. В “Запустении” все гениально: поэтика, синтаксис, восприятие мира. Дикция совершенно невероятная. В конце, где Баратынский говорит о своем отце “Давно кругом меня о нем умолкнул слух, / Прияла прах его далекая могила. / Мне память образа его не сохранила…” Это все очень точно, да? “но здесь еще живет” И вдруг – это потрясающее прилагательное: “…его доступный дух”. И Баратынский продолжает: “Здесь, друг мечтанья и природы, / Я познаю его вполне…” Это Боратынский об отце… “Он вдохновением волнуется во мне. Он славить мне велит леса, долины, воды…” И слушайте дальше, какая потрясающая дикция: “Он убедительно пророчит мне страну, / Где я наследую несрочную весну, / Где разрушения следов я не примечу, / Где в сладостной тени невянущих дубов, / У нескудеющих ручьев…” Какая потрясающая трезвость по поводу того света! “Я тень, священную мне, встречу” 〈…〉 Тот свет, встреча с отцом – ну кто об этом так говорил?» (Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998. С. 229).
314
Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1991. С. 40.
315
Бунин И. А. Окаянные дни… С. 35.
316
Там же. С. 18–19.
317
Бунин И. А. Окаянные дни. С. 31–32.
318
Б. А. Грифцов так описывает сюжет «Большого Мольна»: «Это повествование о бродяге, который ищет чудесных приключений, фантазия о которых возникла в голове непоседливого школьника. События просты: по дороге на станцию Мольн заблудился и попал на курьезный праздник. Отныне имение, клонившееся к упадку, будет казаться ему “таинственной вотчиной”, его владелица хрупкая Ивонна и ее беспутный брат будут для него носителями особых событий» (Грифцов Б. А. Теория романа. М.: Совпадение, 2012. С. 157).
319
Бибихин В. В. Внутренняя форма слова. СПб.: Наука, 2008. С. 131.
320
Отбор образов («la selection des images»), их узнавание («la reconnaissance des images»), сохранение, («la survivance des images») фиксация и разграничение («la delimitation et de la fixation des images») – все это подробно описывается в «Материи и памяти» А. Бергсона.
321
Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. М.: Московский Клуб, 1992. Т. 1. С. 246.
322
См. об этом: Евлампиев И. И. Человек перед лицом абсолютного бытия: мистический реализм Семена Франка // Семен Людвигович Франк. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 163–196.
323
Эйхенбаум Б. Анри Бергсон. Восприятие изменчивости / Пер. с франц. // B. А. Фроловой // Запросы жизни. СПб., 1912. 30 декабря. С. 3013–3014; Эйхенбаум Б. Бергсон о сущности своей философии // Бюллетени литературы и жизни за 1912–1913 год. Т. I. Литературный отдел. М.: Типография Саблина, 1913. С. 494–499.
324
И. Ю. Светликова отмечает, что после выхода рецензии Эйхенбаума на русский перевод «Восприятия изменчивости» Бергсона, упоминаний о Бергсоне в работах формалистов не обнаруживается, зато позже, уже в 1970-х гг. в частной беседе В. Шкловский назовет Бергсона «непроцитированным автором» (См.: Светликова И. Ю. Новый ЛЕФ: история и литературно-художественные концепции: Дис…. канд. искусствовед. СПб., 2001. С. 136). И. Ю. Светликова подробно исследует влияние Бергсона на «Ритм и синтаксис» О. Брика (Там же. С. 136–141; Светликова И. Ю. Истоки русского формализма: Традиция психологизма и формальная школа. М.: НЛО, 2005. // C. 71). «Бергсонианству» Шкловского и Эйхенбаума посвящены отдельные главы в недавней книге Я. С. Левченко, см.: Левченко Я. С. Другая наука: русские формалисты в поисках биографии. М.: ВШЭ, 2012. С. 46–58.
325
Широкая панорама этих проблем, включающая в себя и миры русских формалистов, представлена у М. Б. Ямпольского, см.: Ямпольский Б. М. Пространственная история. Три текста об истории. СПб.: Книжные мастерские; Мастерская «Сеанс», 2013.
326
Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб.: Академический проект, 2004. С. 110.
327
Как показал Дж. Кертис, главной книгой Франка для Эйхенбаума и формалистов стала диссертация Франка «Предмет знания» (1915), но мы будем обращаться к более позднему «Непостижимому», где Франк не только сохраняет, но и четче формулирует основные идеи «Предмета знания».
328
Там же. С. 101.
329
Там же.
330
Отталкиваясь от «Моего временника», описывает историософию Эйхенбаума Я. Левченко. См.: Левченко Я. История и фикция в текстах В. Шкловского и Б. Эйхенбаума в 1920-е гг. Tartu: University Press, 2003. C. 111–126; Он же. Другая наука… 2012. С. 167–220.
331
Эйхенбаум Б. М. Мой временник // Эйхенбаум Б. Мой временник. Маршрут в бессмертие. М.: Аграф, 2001. С. 38.
332
Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 64. Здесь же уместно будет привести стихотворный афоризм Бунина «Нет в мире разных душ и времени в нем нет» («В горах») и определение бунинского художественного времени, принадлежащее Ю. Мальцеву – «некая меняющаяся неподвижность» (Мальцев Ю. Иван Бунин. Frankfurt(AM); Moskau, 1994. С. 29).
333
Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни». С. 124.
334
В противоположность ненастоящему «историческому».
335
Эйхенбаум Б. М. Письма Тютчева // Ф. И. Тютчев: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2005. С. 352.
336
Там же. С. 355. Подобное тютчевскому «чувство современности» и «пророчества назад» присущи и самому Эйхенбауму (См.: Левченко Я. Другая наука… С. 189).
337
Франк С. Л. Космическое чувство в поэзии Тютчева // Ф. И. Тютчев: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2005. С. 279.
338
Там же. С. 286.
339
Вот еще один пример на ту же тему: Я. Левченко пишет о том, что Эйхенбаум завершает автобиографическую родословную «в регистре личного повествования, окончательно ликвидируя дистанцию между научно реконструируемым и интимно переживаемым» (Левченко Я. Другая наука… С. 188). И это тоже очень характерно для мышления, не заостряющего субъектно-объектных отношений.
340
Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М.: Изд во «Правда», 1990. С. 208.
341
Эйхенбаум Б. Бергсон о сущности своей философии. С. 497.
342
Так, ученик и последователь Л. Витгенштейна Н. Малкольм считает сон феноменальным языковым явлением, несущем в себе неуловимую для языка и сознания энергию настоящего, которая утрачивается, обретая нарративные формы: «Можно быть поставленным в тупик тем, почему сны относятся к прошедшему времени, если на самом деле в мы не думали и не переживали различных вещей в нашем прошлом сне»; «В рассказывании снов нет действий, а есть только язык!» (Малкольм Н. Состояние сна. М.: «Прогресс»; «Культура». С. 129, 130). // Как и сновидческие зоны, зоны прошлого («прошлого-в-себе») скрыты от нас, поэтому воспоминания о прошлом приобретают множественные формы, одно событие в прошлом может порождать различные и многочисленные образы-воспоминания, и бергсонианская игра разных форм воспоминаний чрезвычайно продуктивна для искусства. В частности, для киноискусства (См.: Делез Ж. От воспоминания к грезе (третий комментарий к Бергсону) // Делез Ж. Кино. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 294–320), для словесного искусства, активно работающего с образами сна, памяти (Пруст, Бунин, Набоков, Ремизов и др.) (См., например: Панов С. В., Ивашкин С. Н. Память культуры и сценография литературы: складки виртуального и следы невозможного // Память литературы и память культуры: механизмы, функции, репрезентации. Воронеж: Изд во воронежского ун та, 2009. С. 55–61; Нагорная Н. А. Память и сны в автобиографической книге А. М. Ремизова «Подстриженными глазами» // Память литературы и память культуры: механизмы, функции, репрезентации. Воронеж: Изд во воронежского ун та, 2009. С. 20–26). // Примечательно следующее сравнение Б. Эйхенбаума: «Состояние зрителя (кинофильма. – Е. К.) близко к одиночному, интимному созерцанию – он как бы наблюдает чей-то сон» (Эйхенбаум Б. Проблемы киностилистики // Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПб.: РИИИ, 2001. С. 18).
343
Франк С. Л. Непостижимое… С. 209. Размышляя о художественных воплощениях сна в литературе, отметим семантическую нагруженность мотива сна в любом литературном произведении. Однако для лирической формы сон – это более чем мотив. Подобно тому, как чистая лирика и лирическая проза может быть буквально пронизана памятью, она может быть пронизана и сном: онейрическая оптика сна может задавать композиционные и пространственные границы текста. В рассмотренных нами примерах такое лирическое построение ярче всего демонстрирует рассказ «В некотором царстве» (см.: глава 3 настоящей книги).
344
Отрицание «временной бессмыслицы» в историософии С. Л. Франка отмечает К. Г. Исупов: «Франк – растворитель: в живой жизни и в живом знании все распускается – и гносеология, и история. Мир самоорганизуется в предвечное смысловое целое, и все запросы о его “временной” бессмыслице списаны на счет скудоумия жертв исторического процесса» (Исупов К. Г. Русская философская культура. СПб.: Университетская книга, 2010. С. 342).
345
Процесс познания, описанный у Франка, теснейшим образом связан с «Теорией эволюции» Бергсона. Эволюция для Бергсона – это потенциальное бытие, бесконечность возможностей, из которых слабый интеллект может выбрать только небольшое число реализаций («Именно потому, что интеллект всегда стремится воссоздавать и воссоздает из данного, он и упускает то, что является новым в каждый момент истории»: Бергсон А. Творческая эволюция. М.; Жуковский: Кучково поле, 2006. С. 174). В противоположность интеллекту творческие способности могут без ограничений воспринять богатейший потенциал бытия, его «расходящиеся направления». Отсюда проистекает у Бергсона термин «творческая эволюция». // У Франка мышление не сводится к слабому и ограничивающему мышление интеллекту (рацио). Пределы мышления у Франка расширены, поскольку оно включает в себя «непознаваемое». В «непознаваемом» видится нам своеобразный аналог бергсоновского «творчества», обеспечивающего переживание бытия в его потенциальности.
346
Там же. С. 210.
347
Эйхенбаум Б. М. Письма Тютчева // Ф. И. Тютчев: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2005. С. 353.
348
Эйхенбаум Б. М. Письма Тютчева. С. 358.
349
Чумаков Ю. Н. Заметки об идиожанрах Ф. И. Тютчева // Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 346.
350
Так, Оге А. Ханзен-Леве пишет: «Медиальное своеобразие кино заключается, аналогично графической фиксации языковых текстов, в материальной фиксации в виде пленки, складывающейся из линейной последовательности кадров (“пленочные кадры”): лишь в процессе демонстрации этих следующих друг за другом фотографических снимков возникает перформативно – в процессе декламации (материализации) языкового текста – эстетический объект, который в качестве пространственно-временной последовательности “монтажных кадров” проявляет такую же конструктивную самостоятельность, как и декламация в отношении к письменно фиксированному тексту» (Ханзен-Леве Оге А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М.: Языки русской культуры, 2001. C. 334).
351
«Особенное значение в этот период, – пишет Б. Эйхенбаум в статье 1926 г., – имеют работы В. Шкловского по теории сюжета и романа. На самом разнообразном материале – сказки, восточная повесть, “Дон-Кихот” Сервантеса, Толстой, “Тристрам Шенди” Стерна и пр. – Шкловский демонстрирует наличность особых приемов “сюжетосложения” и их связь с общими приемами стиля» (Эйхенбаум Б. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. С. 387).
352
«Импульс» – это одно из самых любимых слов формалистов и лефовцев с почти универсальным значением, возможно, оно, как и другие термины, к примеру, «эволюция» тоже было заимствовано у Бергсона.
353
О мотиве как смысловом пятне см.: Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М.: Наука, 1993. С. 29–30.
354
Эйхенбаум Б. Теория «формального метода»… С. 386.
355
Левченко Я. Другая наука… С. 197.
356
В третьей главе нашей книги мы предпослали аналитическому описанию рассказа Бунина «В некотором царстве» полный текст этого небольшого произведения, что явилось концептуальным моментом, необходимым для того, чтобы указать на сходство между уже утвердившимися подходами к лирическому стихотворному тексту и предлагаемым нами подходом к прозаической миниатюре со стороны микропоэтики.
357
Франк С. Л. Непостижимое… С. 250.
358
К. Г. Исупов так описывает аналогичное движение в историософском мышлении С. Л. Франка: «Оригинальность подхода Франка к проблемам философско-социального порядка сказалась в том, что идет он в своем анализе не от макромира (общество) к микромиру (“я”), но… в обратном векторе» (Исупов К. Г. Русская философская культура…. С. 337).
359
Левченко Я. История и фикция в текстах В. Шкловского и Б. Эйхенбаума… С. 18.
360
Понятие «литературная эволюция» Ю. Н. Тынянов вводит с целью пересмотреть историю литературы, отойти от «упрощенного каузального подхода к литературному ряду». Сам термин «эволюция» кажется заимствованием из «Творческой эволюции» А. Бергсона и означает «изменчивость», «парадигматичность», соотнесенность элементов системы: «Проделать аналитическую работу над отдельными элементами произведения, сюжетом и стилем, ритмом и синтаксисом в прозе, ритмом и семантикой в стихе и т. д. стоило, чтобы убедиться, что абстракция этих элементов как рабочая гипотеза… допустима, и что все эти элементы соотнесены между собой и находятся во взаимодействии» (Курсив Ю. Н. Тынянова. – Е. К.) (Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 272). Кроме того, по мнению Б. М. Ямпольского, на тыняновском понятии «эволюции» лежит след биологической теории, что меняет исторический масштаб, расширяя его до внечеловеческого, природного, доисторического, доязыкового, докультурного. Моменты семантической неопределенности (следствие динамических колебаний) делают текст в восприятии формалистов «живым», природным, органическим, а не только «культурным», «условным», «историческим». Об истории Тынянова как палимпсесте, включающем в себя и «природный» слой, см.: Ямпольский Б. М. Пространственная история… С. 57.
361
Я. Левченко определяет метод работы Б. Эйхенбаума как «собирание и абстрагирование фактов по принципу аналогии и отождествления» (Левченко Я. История и фикция в текстах В. Шкловского и Б. Эйхенбаума в 1920-е гг. C. 12).
362
Ханзен-Леве Оге А. Русский формализм… С. 330.
363
Там же. С. 327–336.
364
Эквиваленты», «колеблющиеся признаки значения», «видимости значения» – все эти формалистские представления могут прочитываться как следствие отзвуков философии Бергсона в мышлении формалистов. Я. С. Левченко находит, что «первичность отклонения по отношению к норме оказывается созвучна представлению об отсутствии как о сложном случае наличия», и приводит пассаж из «Творческой эволюции» о «несуществующем»: «…понятие о “несуществующем” объекте необходимо является понятием о “существующем” объекте, к которому, кроме того, прибавляется еще представление об исключении этого предмета из настоящей действительности в целом» (Левченко Я. С. Другая история… С. 58).
365
Эйхенбаум Б. Проблемы киностилистики… С. 34.
366
«Движущуюся неподвижность», «движущуюся одновременность» чувствовали и критики Бунина, особенно те, что углублялись в лирическую природу бунинского повествования. Так, Ф. А. Степун пишет об «иллюзии очень большого движения» в рассказе Бунина: «Говорю иллюзия потому, что на самом деле не движение вводится в рассказ, а скорее наоборот, рассказ в движение жизни» (Степун Ф. Литературные заметки. И. А. Бунин (по поводу «Митиной любви») // Современные записки. 1926. Кн. 27. С. 325). См. также комментарий к этой мысли Ф. Степуна в книге О. В. Сливицкой: Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»… С. 69–70).
367
Эйхенбаум Б. Проблемы киностилистики… С. 29.
368
Там же. С. 22.
369
По мысли Ю. Н. Чумакова, «взаимовключения, наложения, пересечения» образуют «нелинейно-запутанную» сетку текста, бесконечно наращивают его семантический объем (Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010. С. 64).
370
См.: Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета… С. 88.
371
См.: Чумаков Ю. Н. Перспектива стиха или перспектива сюжета («Евгений Онегин»)? // Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных рассмотрений. C. 79–85.
372
«Одним из существенных недостатков театра… была неподвижность сценической площадки и связанная с этим неподвижность точек зрения и планов 〈…〉 Кино усложнило самый вопрос о сценической площадке… Ничто не стоит и не ждет своей очереди – меняются и места действия, и части сцен, и точки зрения на них… Кинодинамика… оказалась достаточно могущественной» (Эйхенбаум Б. Проблемы киностилистики… С. 23–24). Примерно в то же время, что и «Проблемы киностилистики» появляется статья Б. Эйхенбаума «Размышления об искусстве», где на два порядка делятся эмоции. К эмоциям первого порядка относятся естественные – радость, печаль, гнев, страх и т. п. Эти эмоции, как считает критик, не имеют отношения к искусству («Искусство в существе своем вне-эмоционально»), то есть из сферы искусства исключаются чувства, которые позволяют прочитывать сюжет героев, сопереживая им. Зато для художественного восприятия необходимы интеллектуальные эмоции (эмоции второго порядка): «ритмическая эмоция, эмоция речевая, пластическая, цветовая, звуковая, эмоции пространства, движения и т. д.» (Эйхенбаум Б. Размышления об искусстве // Жизнь искусства. 1924. № 99. С. 8–9).
373
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Л.: Academia, 1924. С. 40–41.
374
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета… С. 85.
375
«Стареющий современник, – пишет Ю. Н. Тынянов в “Литературном факте”, – переживший одну-две, а то и больше литературные революции, заметит, что в его время такое-то явление не было литературным фактом, а теперь стало, и наоборот 〈…〉 то, что сегодня литературный факт, то назавтра станет простым фактом быта, исчезнет из литературы» (Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 257).

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.
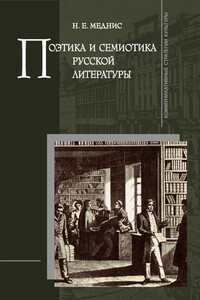
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.