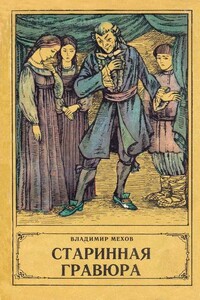Подлинная апология Сократа - [12]
Часть четвертая
§ 1. Мне уже надоело играть с вами… Пора объяснить вам и мою философию… Ну, чего нахмурились? Вам не нравится теория? Вы предпочли бы какую–нибудь сплетню? Например, как влюбилась в меня Феодота? Но у меня нет времени. Необходимо, прежде чем я умру, довести до всеобщего сведения, что Сократ понял недостатки своего учения и раскаялся… Так вот, Феодоте сказали, что я не особенно увлекаюсь женщинами (я‑то!). И это ее задело. Она поставила себе цель очаровать меня. Приглашала чуть ли не каждый день в свою виллу беседовать о философии. И так всегда случалось, что, когда я приходил, она купалась, натиралась благовониями, а потом, голая, репетировала передо мной новые танцы. «Ты человек умный, — говорила она, — ты не поймешь меня превратно». Затем она ложилась отдохнуть на диван, сажала меня рядом с собой, и в то время как ее жаркая, ослепительно белая грудь учащенно вздымалась и опускалась, я рассказывал ей… о бессмертии души. Внезапно она перебивала меня на середине фразы и говорила: «Я знаю шестьдесят девять способов любви!» Я задумывался, опустив голову. «Что с тобой?» — спрашивала она. «Я размышляю над тем, какой из твоих шестидесяти девяти способов наиболее… философский, абсолютный…» (Крики: «Какой? Какой?»)
§ 2. Теперь вы понимаете, что нужно знать философию. Вот и Феодота тоже спрашивала и переспрашивала: «Какой?» Наконец, чтобы отделаться от нее, я ей сказал: «Этот способ таков: сперва нужно, что есть силы бить женщину, а потом, когда она станет дрожать, кричать и извиваться от боли, повалить ее на спину». И вот эта чертовка прильнула ко мне и, полузакрыв глаза, прошептала: «Побей меня!»
§ 3. Все это я рассказал не для того, чтобы задеть вас. Я хотел незаметно ввести вас в свою философию. Опять хмуритесь? Древние эллины, и так боитесь мысли! Успокойтесь! Вам, «зевсовым судьям», не придется ломать себе голову. Со всем юмором, который во мне остался, я теперь посмеюсь и над своей философией. Как умные ослы, вы, наверно, уже наполовину поняли, что если в любовных делах нет абсолюта, то тем более нет его в высоких материях.
§ 4. Первым долгом, я не философ. Я не построил никакой «системы», не создал светлого храма Мысли с колоннами, паникадилами, царскими вратами и святая святых. Я нашел только свой особый «метод» мышления. Дымящийся Дельфийский храм, «Пуп земли», удостоверил через своего оракула мою принадлежность только к мудрецам, но не к философам и сравнил меня не с великим Пифагором, Эмпедоклом, Анаксагором и
прочими, а с Софоклом и Эврипидом — двумя поэтами! Видимо, он хотел опозорить не только меня, но и их, допуская, что они знают меньше моего «ничего», и ставя меня на одну доску с прославленными «пустозвонами» (за ними — область чувств, за мной–ума) Даже друзья называли меня не философом, а «учителем» и «господином председателем».
§ 5. Рекламируя меня во всем мире как мудреца, божественный Дельфийский Дым знал, что делает. Он хотел внушить мне, что я нашел истину, для того чтобы я ее не искал и случайно на нее не напал! Он боялся моего большого ума. Невыгодно бессмертным господам, чтобы земные существа познавали истину! И когда он увидел, что я начинаю догадываться о ней, он, не теряя времени, черный и густой, проник в ваши мозги и побудил вас убить меня. Если, однако, Локсий все–таки всерьез нашел, что я мудрейший, он имел в виду, конечно, только то, что между людьми я являюсь тем, чем он между богами: первым насмешником.
§ 6. Еще сопливым ребенком, слушая с разинутым ртом разговоры взрослых на городской площади, я недоумевал, почему по каждому вопросу сталкиваются сорок мнений, причем любое из них кажется правильным. Софисты решительно утверждали, что все они и в самом деле правильны. Вначале незрелым, а позже уже созревшим умом я всегда старался найти одно–единственное мнение, годное для всякого случая и обязательное для всех, то есть вечное и неизменное, не зависящее от времени, пространства и людей — абсолютное. Оно должно было заключать в себе нечто божественное, быть «идеей». Эту «идею» не следовало искать во внешнем мире, преходящем и ложном. Ее надлежало искать в нашей душе, которая и не материальна и бессмертна. В глубинах души лежат «идеи–истины», погребенные под толстым слоем ржавчины, который нагромоздили там «чувства–желания» и «желания–стремления». Вытащить их на свет божий было трудным делом. Здесь требовалось мастерство повитухи. И я стал повитухой государства. Я хватал души людей, осторожно массировал их, а при случае запускал в них свою ручищу и щипцы, чтобы извлечь младенца. Я помогал родиться истинам, граждане афиняне, и вот почему земля, небо и море наполнились тучами лжи!
§ 7. Непонятно? Встряхивая и переворачивая души, чтобы добыть их божественные элементы, я заставлял их извергать ржавчину: бога, благо, справедливость, отечество, красоту и все прочее, что не является ни началом, ни конечной целью, ни даром богов, ни достижением ума; это — творения временные, смысл их преходящ и неуловим, это низкие средства, которыми правящая клика ослепляет своих подчиненных и дурманит их души. Мы, люди, делимся на тех, кто повелевает, и тех, кто исполняет; на тех, кто бездельничает, и тех, кто трудится; на тех, кто видит, и тех, кто ходит в шорах, на сытых и дураков.

Используя один из самых известных древнегреческих мифов о добродетельной супруге Одиссея Пенелопе, Костас Варналис создает беспощадную сатиру на современное буржуазное государство, нещадно бичует его уродства и пороки, обнажает человеконенавистническую сущность фашистской диктатуры.«Дневник Пенелопы» был создан Варналисом в самый мрачный период итало-германской оккупации Греции. Это — едкая сатира, в которой читатель наверняка найдет интонации, сходные с язвительными интонациями Дж. Свифта и А. Франса, но вместе с тем это произведение глубоко национальное, проникнутое любовью к истории.

Отряд красноармейцев объезжает ближайшие от Знаменки села, вылавливая участников белогвардейского мятежа. Случайно попавшая в руки командира отряда Головина записка, указывает место, где скрывается Степан Золотарев, известный своей жестокостью главарь белых…
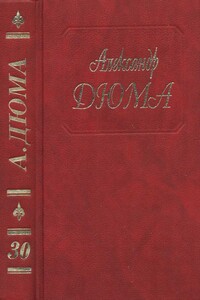
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
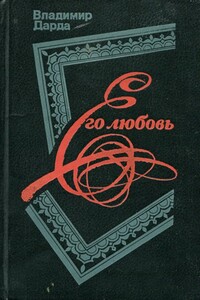
Украинский прозаик Владимир Дарда — автор нескольких книг. «Его любовь» — первая книга писателя, выходящая в переводе на русский язык. В нее вошли повести «Глубины сердца», «Грустные метаморфозы», «Теща» — о наших современниках, о судьбах молодой семьи; «Возвращение» — о мужестве советских людей, попавших в фашистский концлагерь; «Его любовь» — о великом Кобзаре Тарасе Григорьевиче Шевченко.
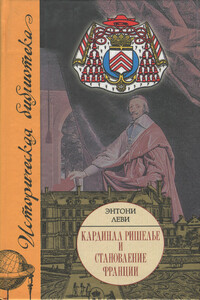
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.
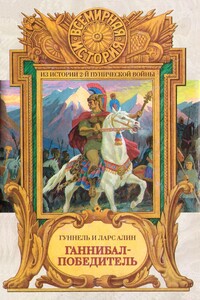
Роман шведских писателей Гуннель и Ларса Алин посвящён выдающемуся полководцу античности Ганнибалу. Рассказ ведётся от лица летописца-поэта, сопровождавшего Ганнибала в его походе из Испании в Италию через Пиренеи в 218 г. н. э. во время Второй Пунической войны. И хотя хронологически действие ограничено рамками этого периода войны, в романе говорится и о многих других событиях тех лет.