Под сенью девушек в цвету - [26]
И вот та же самая тайна, которая постоянно скрывает от взора причину катастроф, столь же часто окутывает и внезапность счастливых исходов в сердечных делах (вроде того, который я обнаружил в письме Жильберты). Исходов счастливых, или, по крайней мере, представляющихся счастливыми, так как по-настоящему счастливых не бывает в тех случаях, когда тобой владеет такого рода чувство, которое, сколько его ни утоляй, все равно причиняет боль, но только обыкновенно эта боль каждый раз перемещается. Впрочем, изредка вам дается передышка, и тогда в течение некоторого времени вам кажется, что вы поправились.
Что касается того письма, подпись под которым Франсуаза отказалась признать за имя «Жильберта», потому что «Жи» скорей напоминало «А», между тем как последний слог благодаря зубчатому росчерку занял невероятно много места, то в поисках разумного объяснения совершенному им перевороту, так меня осчастливившему, пожалуй, можно прийти к выводу, что этим переворотом я отчасти был обязан случайности, которая, как я думал вначале, погубит меня в глазах Сванов. Незадолго до получения письма ко мне пришел Блок, как раз когда в моей комнате находился профессор Котар, которого, поскольку я выполнял назначенный им режим, мои родители снова начали приглашать. По окончании осмотра они оставили Котара обедать, а Блоку разрешили пройти ко мне. Приняв участие в общем разговоре, Блок сообщил, что слышал от одной особы, у которой он вчера обедал и которая очень дружна с г-жой Сван, что г-жа Сван ко мне благоволит, я же хотел ему на это сказать, что он, по всей вероятности, ошибается, и в доказательство, — побужденный тою же самою правдивостью, которая вынудила меня осведомить об этом маркиза де Норпуа, а также из боязни, что г-жа Сван сочтет меня лжецом, — сослаться на то, что я с ней незнаком и что мы с ней никогда не разговаривали. Но у меня не хватило духу возразить Блоку: я понял, что это он нарочно, что он придумал то, чего г-жа Сван сказать не могла, чтобы ввернуть, что он обедал у одной из ее подруг, и хоть это была заведомая ложь, но она ему льстила. Так вот, маркиз де Норпуа, узнав, что я незнаком с г-жой Сван, но мечтаю с ней познакомиться, счел за благо не заговаривать с ней обо мне, зато ее домашний врач Котар, вдохновленный словами Блока о том, что она великолепно знает меня и хорошего мнения обо мне, решил при встрече сказать ей, что я — прелестный мальчик и что он со мной в дружбе, рассудив, что мне от этого пользы никакой, он же от этого выиграет, — таковы причины, побудившие его при случае поговорить обо мне с Одеттой.
Словом, я стал бывать в доме, откуда до самой лестницы доходил запах духов, которыми душилась г-жа Сван, и где еще сильнее пахло тем особым, мучительным очарованием, каким веяло от жизни Жильберты. Неумолимый швейцар преобразился в благосклонную Эвмениду[81] и, когда я спрашивал, можно ли войти, гостеприимным движением приподнимал фуражку в знак того, что он внял моей мольбе. Еще недавно меня отделял от не предназначавшихся мне сокровищ блестящий, отчужденный, поверхностный взгляд окон на улицу, который казался мне взглядом самих Сванов, зато теперь, в хорошую погоду, если я проводил всю вторую половину дня с Жильбертой, то мне случалось самому отворять окна, чтобы слегка проветрить ее комнату, и даже выглядывать в них вместе с Жильбертой, когда ее мать принимала гостей, и наблюдать, как они выходят из экипажей, а гости почти всегда поднимали головы и, приняв меня за племянника хозяйки, в знак приветствия махали рукой. В такие минуты косы Жильберты касались моей щеки. Тонкость их волокон, естественная и вместе с тем сверхъестественная, пышность сплетенного из них орнамента производили на меня впечатление единственного в своем роде произведения искусства, созданного из травы райских садов. Я бы и в самом деле не пожалел горних лугов для обрамления крохотной их частицы. Но раз у меня нет надежды получить живую прядку от этих кос, то хотя бы иметь фотографию, и насколько же больше я дорожил бы ею, чем фотографией цветочков, которые нарисовал Леонардо да Винчи! Ради фотографии я унижался перед друзьями Свана, унижался даже перед фотографами, так ничего и не добился и только связался с очень скучными людьми.
Родители Жильберты, долго препятствовавшие нашим свиданиям, теперь, когда я входил в мрачную переднюю, где вечно реяла, еще более грозная и более желанная, чем в былом Версале встреча с королем, возможность встретиться с ними и где, наткнувшись на огромную вешалку с семью ветвями, похожую на библейский семисвечник, я обыкновенно изгибался в поклонах перед лакеем в длинной серой ливрее, который сидел на сундуке и которого я принимал в темноте за г-жу Сван, — родители Жильберты, если я с кем-нибудь из них сталкивался, не выражали неудовольствия, напротив, они с улыбкой жали мне руку и говорили:
— Здрасте. (Само собой разумеется, что дома я с упоением и без конца упражнялся в подражании их выговору.) Жильберта знает, что вы должны прийти? Ну, тогда я не буду вас провожать к ней.
Этого мало: угощения, на которые Жильберта приглашала подруг и которые долго представлялись мне наименее преодолимой из всех преград, высившихся между нею и мной, теперь явились поводом для наших встреч, и об этих сборищах Жильберта уведомляла меня записками (ведь я стал бывать у нее недавно) на разной почтовой бумаге. На одном листке был оттиснут голубой пудель со смешной подписью по-английски, в конце которой стоял восклицательный знак; другой был с печатью в виде якоря, третий-с вензелем «Ж. С.», растянувшимся непомерной величины прямоугольником на весь лист, а еще были листки с именем «Жильберта», то напечатанным поперек в уголке золотыми буквами, почерком моей подружки, и кончавшимся росчерком под раскрытым черным зонтиком, то упрятанным в изображавшую китайскую шляпу монограмму, куда входили все буквы ее имени, но только различить какую-нибудь одну из этих букв, сплошь — заглавных, не представлялось возможным. Наконец, так как набор почтовой бумаги, которым располагала Жильберта, при всем своем разнообразии не был, однако, неисчерпаем, несколько «недель спустя я вновь увидел, как в первый раз, девиз Per uiam rectam над рыцарем в шлеме внутри медальона из потускневшего серебра. Тогда я полагал, что бумага меняется, ибо того требует светский ритуал, а теперь мне думается, что, скорей всего, это была затея Жильберты, всякий раз припоминавшей, на какой бумаге она писала прошлый раз, с тем чтобы ее корреспонденты, — во всяком случае, те, на которых стоило потратиться, — получали записки на одинаковой бумаге через возможно более длительные промежутки. Так как вследствие разницы в расписании уроков некоторые подруги, приглашенные Жильбертой на чашку чая, вынуждены были уходить, когда другие являлись, то я уже на лестнице слышал долетавший из передней говор, и этот говор задолго до того, как я добирался до последней ступеньки, обрывал мои связи, — так волновала меня мысль об участии в величественной церемонии, — с повседневной жизнью, обрывал столь стремительно, что потом уже я забывал снять шарф, когда мне становилось жарко, или посмотреть на часы, чтобы вовремя прийти домой. Даже лестница, сплошь деревянная (как в тех домах, что строились тогда в стиле Генриха II — стиле, которым долго увлекалась Одетта, но от которого она потом все-таки отказалась), с объявлением, какого не было на нашей лестнице: „Спускаться на лифте воспрещается“, представлялась мне чудесной, и, описывая ее моим родителям, я сказал, что это старинная лестница и что Сваи привез ее откуда-то издалека. Любовь к истине была во мне до того сильна, что я не задумываясь дал бы им эти сведения, даже если бы я был уверен, что они недостоверны, ибо только такого рода сведения могли внушить моим родителям почтение, какое испытывал я к лестнице Сванов. Так в присутствии невежды, неспособного оценить гениальность врача, лучше не говорить, что он не умеет вылечить насморк. Но я не отличался наблюдательностью, в большинстве случаев не знал, как называются и что собой представляют вещи, находившиеся у меня перед глазами, — я был уверен в одном: раз ими пользуются Сваны, значит, это что-то необыкновенное, и потому я не сознавал, что, рассказывая родителям об их художественной ценности и о том, что лестница привезена, я лгу. Я этого не сознавал, и все же внутренний голос мне на это намекнул, потону что я почувствовал, что густо краснею, когда меня перебил отец: „Я знаю эти дома, — сказал он, — я видел один, а ведь они похожи; Сван просто-напросто занимает несколько этажей; дома эти строил Берлье
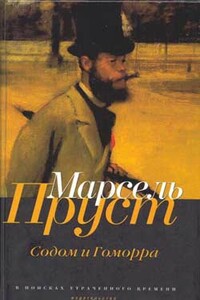
Роман «Содом и Гоморра» – четвертая книга семитомного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».В ней получают развитие намеченные в предыдущих томах сюжетные линии, в особенности начатая в предыдущей книге «У Германтов» мучительная и противоречивая история любви Марселя к Альбертине, а для восприятия и понимания двух последующих томов эпопеи «Содому и Гоморре» принадлежит во многом ключевое место.Вместе с тем роман читается как самостоятельное произведение.

«В сторону Свана» — первая часть эпопеи «В поисках утраченного времени» классика французской литературы Марселя Пруста (1871–1922). Прекрасный перевод, выполненный А. А. Франковским еще в двадцатые годы, доносит до читателя свежесть и обаяние этой удивительной прозы. Перевод осуществлялся по изданию: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu. Tomes I–V. Paris. Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1921–1925. В настоящем издании перевод сверен с текстом нового французского издания: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu.

Роман «У Германтов» продолжает семитомную эпопею французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в которой автор воссоздает ушедшее время, изображая внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».
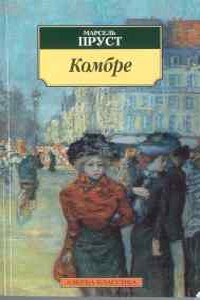
Новый перевод романа Пруста "Комбре" (так называется первая часть первого тома) из цикла "В поисках утраченного времени" опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.Пруст — изощренный исследователь снобизма, его книга — настоящий психологический трактат о гомосексуализме, исследование ревности, анализ антисемитизма. Он посягнул на все ценности: на дружбу, любовь, поклонение искусству, семейные радости, набожность, верность и преданность, патриотизм.
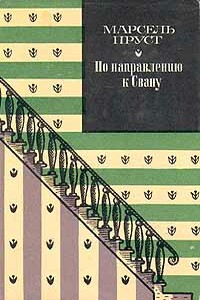
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.

Другие переводы Ольги Палны с разных языков можно найти на страничке www.olgapalna.com.Эта книга издавалась в 2005 году (главы "Джимми" в переводе ОП), в текущей версии (все главы в переводе ОП) эта книжка ранее не издавалась.И далее, видимо, издана не будет ...To Colem, with love.

В истории финской литературы XX века за Эйно Лейно (Эйно Печальным) прочно закрепилась слава первого поэта. Однако творчество Лейно вышло за пределы одной страны, перестав быть только национальным достоянием. Литературное наследие «великого художника слова», как называл Лейно Максим Горький, в значительной мере обогатило европейскую духовную культуру. И хотя со дня рождения Эйно Лейно минуло почти 130 лет, лучшие его стихотворения по-прежнему живут, и финский язык звучит в них прекрасной мелодией. Настоящее издание впервые знакомит читателей с творчеством финского писателя в столь полном объеме, в книгу включены как его поэтические, так и прозаические произведения.

Иренео Фунес помнил все. Обретя эту способность в 19 лет, благодаря серьезной травме, приведшей к параличу, он мог воссоздать в памяти любой прожитый им день. Мир Фунеса был невыносимо четким…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений.
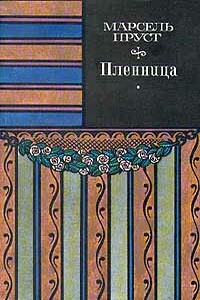
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Марсель Пруст (1871–1922) — знаменитый французский писатель, родоначальник современной психологической прозы. его семитомная эпопея "В поисках утраченного времени" стала одним из гениальнейших литературных опытов 20-го века.В тексте «Германт» сохранена пунктуация и орфография переводчика А. Франковского.
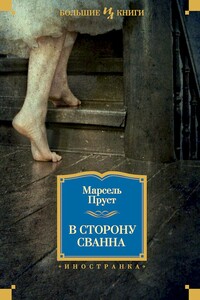
Первый том самого знаменитого французского романа ХХ века вышел в свет более ста лет назад — в ноябре 1913 года. Роман назывался «В сторону Сванна», и его автор Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что его детище разрастется в цикл «В поисках утраченного времени», над которым писатель будет работать до последних часов своей жизни. Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
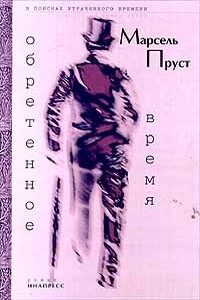
Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.
