Под сенью девушек в цвету - [20]
На Новый год я сперва поздравил родственников вместе с мамой, — чтобы не утомлять меня, она заранее (с помощью маршрута, составленного моим отцом) установила порядок визитов, руководствуясь не столько степенью родства, сколько местожительством. Но когда мы вошли в гостиную одной нашей дальней родственницы, с которой мы начали, потому что она недалеко от нас жила, моя мать обомлела при виде лучшего друга самого обидчивого моего дяди, — он явился сюда с коробкой каштанов то ли в сахаре, то ли в шоколаде и, разумеется, не преминет доложить дяде, что мы начали «новогодние визиты не с него. Дядя, конечно, будет оскорблен; по мнению дяди, мы должны от площади Магдалины поехать к Ботаническому саду, где живет он, от него — на улицу Святого Августина, а уж оттуда — в сторону Медицинского института, такой маршрут представлялся ему совершенно правильным.
Покончив с визитами (бабушка избавляла нас от визита к ней, так как на Новый год мы у нее обедали), я помчался на Елисейские поля, чтобы попросить нашу торговку, к которой несколько раз в неделю приходили от Сванов за пряниками, передать этому лицу письмо, а я еще в тот день, когда моя подруга так меня огорчила, решил написать ей на Новый год, — написать, что вместе со старым годом уходит и наша прежняя дружба, что с первого января я забываю обо всех неудовольствиях и разочарованиях и что мы с ней построим новую дружбу, такую прочную, что никакая сила уже не сокрушит ее, и такую прекрасную, что, как я надеялся, Жильберта хотя бы из самолюбия будет охранять ее красоту и вовремя предупреждать меня, как и я ее, о малейшей опасности. Когда я шел домой, на углу Королевской меня остановила Франсуаза: она покупала на лотке, самой себе в подарок, фотографии Пия IX[69] и Распайля[70], ну, а я купил фотографию Берма. Постоянные восторги, вызывавшиеся артисткой, обедняли ее лицо, на котором застыло выражение, с каким она принимала их, не меняющееся, поношенное, как одежда у тех, кому не во что переодеться, и она ничем не привлекала к себе внимания, кроме складки над верхней губой, взлета бровей и еще некоторых черточек, всегда одних и тех же, образовавшихся, вернее всего, после ожога или нервного потрясения. Само по себе ее лицо не произвело на меня впечатления красивого лица, но оно было, наверное, так зацеловано, что создавало представление, а значит, и желание поцелуя: из глубины альбома оно все еще притягивало поцелуй своим кокетливо нежным взглядом и притворно наивной улыбкой. Да ведь у Берма и в самом деле многие молодые люди, наверное, будили такое желание, в котором она признавалась под маской Федры и которое ей так легко было исполнить — в частности, благодаря славе, красившей и молодившей ее. Вечерело; я остановился у столба с наклеенной на нем афишей спектакля, который должен был состояться первого января с участием Берма. Дул ветер, влажный и мягкий. Это время дня я особенно хорошо изучил; у меня было ощущение и предчувствие, что новогодний день ничем не отличается от других, что это не первый день нового мира, когда я мог бы все начать сызнова и перезнакомиться с Жильбертой, как в дни Творения, как будто прошлого не существовало, как будто отпали вместе со всеми уроками, какие можно было извлечь из них для будущего, все обиды, которые она мне иной раз причиняла, — что это не первый день нового мира, ничего не сохранившего от старого… кроме одного: кроме моего желания, чтобы Жильберта любила меня. Поняв, что если мое сердце и хотело, чтобы вокруг меня обновилась вселенная, не удовлетворявшая его, то лишь потому, что мое сердце не изменилось, я подумал, что сердцу Жильберты тоже нет оснований меняться; я почувствовал, что новая дружба — это все та же дружба, точь-в-точь как новый год: ведь он же не отделен рвом от старого, — это только наша воля, бессильная настигнуть годы и переиначить их, без спросу дает им разные названия. Напрасно я желал посвятить этот год Жильберте и, подобно тому как прикрывают религией слепые законы природы, попытаться отметить новогодний день особым понятием, какое я о нем себе составил; я чувствовал, что он не знает, что мы называем его новогодним днем, что он окончится сумерками, не таящими для меня ничего нового; в мягком ветре, обдувавшем столб с афишами, я вновь узнал, я снова ощутил все ту же извечную и обычную материальность, привычную влажность, бездумную текучесть прошедших дней.
Я пришел домой. Я провел первое января так, как его проводят старики, у которых оно проходит иначе, чем у молодых, — не потому, что им уже не делают подарков, а потому что они уже не верят в Новый год. Подарок я получил, но не тот единственный, который мог бы доставить мне удовольствие: не записку от Жильберты. И все-таки я был еще молод: я мог написать ей записку, выразить ей мои смутные любовные мечтания в надежде пробудить их у нее. Горе людей состарившихся в том, что они даже не думают о подобного рода письмах, ибо познали их тщету.
Когда я лег, уличный шум, в этот праздничный вечер длившийся дольше, чем обычно, не давал мне спать. Я думал о тех, кого в конце этой ночи ждет наслаждение, о любовнике, быть может — о целой ватаге развратников, которые, наверно, поедут к Берма после спектакля, назначенного, как я видел, на сегодня. Я даже не мог, чтобы унять волнение, которое вызывала во мне эта мысль в бессонную ночь, убедить себя, что Берма, вероятно, и не думает о любви, оттого что давным-давно вытверженные ею и произносимые со сцены стихи ежеминутно напоминают ей, что любовь прекрасна, о чем она, впрочем, сама хорошо знала, ибо ей удавалось воссоздать ее тревоги с такой небывалой силой и с такой неожиданной нежностью, что изведавшие эти тревоги, пережившие их зрители приходили в восторг. Я зажег свечу, чтобы еще раз увидеть ее лицо… При мысли, что сейчас, вне всякого сомнения, эти господа ласкают ее лицо и что я не властен помешать им доставлять Берма сверхъестественную, смутную радость, как не властен помешать Берма доставлять такую же радость им, я испытывал волнение не столько сладостное, сколько мучительное, на душе у меня была тоска, которой придал необычную остроту рог, трубящий в карнавальную ночь и часто по большим праздникам, звучащий особенно заунывно именно потому, что раздается не «вечером, в глуши лесов»
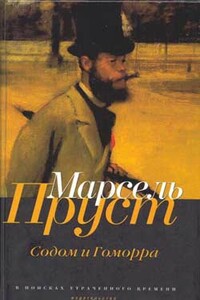
Роман «Содом и Гоморра» – четвертая книга семитомного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».В ней получают развитие намеченные в предыдущих томах сюжетные линии, в особенности начатая в предыдущей книге «У Германтов» мучительная и противоречивая история любви Марселя к Альбертине, а для восприятия и понимания двух последующих томов эпопеи «Содому и Гоморре» принадлежит во многом ключевое место.Вместе с тем роман читается как самостоятельное произведение.

«В сторону Свана» — первая часть эпопеи «В поисках утраченного времени» классика французской литературы Марселя Пруста (1871–1922). Прекрасный перевод, выполненный А. А. Франковским еще в двадцатые годы, доносит до читателя свежесть и обаяние этой удивительной прозы. Перевод осуществлялся по изданию: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu. Tomes I–V. Paris. Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1921–1925. В настоящем издании перевод сверен с текстом нового французского издания: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu.

Роман «У Германтов» продолжает семитомную эпопею французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в которой автор воссоздает ушедшее время, изображая внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».
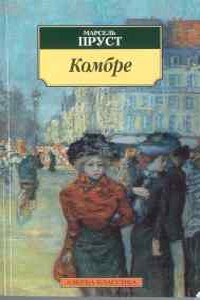
Новый перевод романа Пруста "Комбре" (так называется первая часть первого тома) из цикла "В поисках утраченного времени" опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.Пруст — изощренный исследователь снобизма, его книга — настоящий психологический трактат о гомосексуализме, исследование ревности, анализ антисемитизма. Он посягнул на все ценности: на дружбу, любовь, поклонение искусству, семейные радости, набожность, верность и преданность, патриотизм.
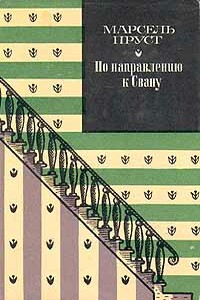
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дочь графа, жена сенатора, племянница последнего польского короля Станислава Понятовского, Анна Потоцкая (1779–1867) самим своим происхождением была предназначена для роли, которую она так блистательно играла в польском и французском обществе. Красивая, яркая, умная, отважная, она страстно любила свою несчастную родину и, не теряя надежды на ее возрождение, до конца оставалась преданной Наполеону, с которым не только она эти надежды связывала. Свидетельница великих событий – она жила в Варшаве и Париже – графиня Потоцкая описала их с чисто женским вниманием к значимым, хоть и мелким деталям.

«Мартин Чезлвит» (англ. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, часто просто Martin Chuzzlewit) — роман Чарльза Диккенса. Выходил отдельными выпусками в 1843—1844 годах. В книге отразились впечатления автора от поездки в США в 1842 году, во многом негативные. Роман посвящен знакомой Диккенса — миллионерше-благотворительнице Анджеле Бердетт-Куттс. На русский язык «Мартин Чезлвит» был переведен в 1844 году и опубликован в журнале «Отечественные записки». В обзоре русской литературы за 1844 год В. Г. Белинский отметил «необыкновенную зрелость таланта автора», назвав «Мартина Чезлвита» «едва ли не лучшим романом даровитого Диккенса» (В.

«Избранное» классика венгерской литературы Дежё Костолани (1885—1936) составляют произведения о жизни «маленьких людей», на судьбах которых сказался кризис венгерского общества межвоенного периода.

В сборник крупнейшего словацкого писателя-реалиста Иозефа Грегора-Тайовского вошли рассказы 1890–1918 годов о крестьянской жизни, бесправии народа и несправедливости общественного устройства.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

В однотомник выдающегося венгерского прозаика Л. Надя (1883—1954) входят роман «Ученик», написанный во время войны и опубликованный в 1945 году, — произведение, пронизанное острой социальной критикой и в значительной мере автобиографическое, как и «Дневник из подвала», относящийся к периоду освобождения Венгрии от фашизма, а также лучшие новеллы.
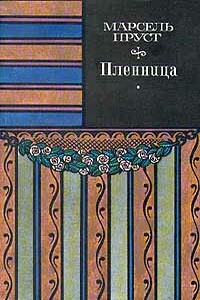
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Марсель Пруст (1871–1922) — знаменитый французский писатель, родоначальник современной психологической прозы. его семитомная эпопея "В поисках утраченного времени" стала одним из гениальнейших литературных опытов 20-го века.В тексте «Германт» сохранена пунктуация и орфография переводчика А. Франковского.
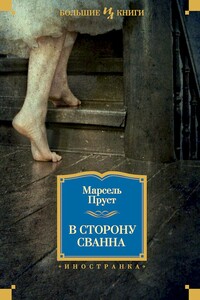
Первый том самого знаменитого французского романа ХХ века вышел в свет более ста лет назад — в ноябре 1913 года. Роман назывался «В сторону Сванна», и его автор Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что его детище разрастется в цикл «В поисках утраченного времени», над которым писатель будет работать до последних часов своей жизни. Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
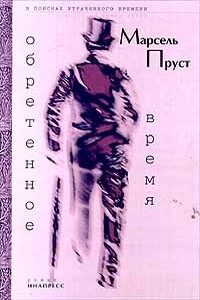
Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.
