Под сенью девушек в цвету - [144]
То, что я далеко не сразу смог себе ответить, какая девушка из стайки мне больше всего нравится, ибо каждая содержала в себе частицу общего обаяния, под власть которого я подпал мгновенно, явилось одной из причин, по которым позднее, даже в пору самой сильной моей любви — второй — любви к Альбертине, — я пользовался, так сказать, временной свободой — очень недолго — от любви к ней. Блуждая от одной подруги Альбертины к другой, прежде чем окончательно избрать Альбертину, моя любовь на некоторое время оставляла между собой и образом Альбертины нечто вроде «зазора», что давало ей возможность, как неналаженному освещению, задерживаться на других, а потом уже возвращаться к ней; связь между болью в моем сердце и воспоминанием об Альбертине представлялась мне не непременной — пожалуй, я мог бы соотнести ее с образом другой женщины. Вот эти минутные проблески и давали мне возможность рассеивать действительность, не только внешнюю действительность, как во времена моей любви к Жильберте (любви, которую я считал состоянием внутренним, так как я из себя самого извлекал особенности, характерные черты любимого существа, все, что было в нем необходимого для моего счастья), но и действительность внутреннюю, чисто субъективную.
— Не проходит дня, чтобы какая-нибудь из этих девушек по дороге не заглянула на секундочку ко мне в мастерскую, — сказал Эльстир, и я пришел в отчаяние от мысли, что если б я, не откладывая, побывал у него, как мне советовала бабушка, то, вероятно, уже давно познакомился бы с Альбертиной.
Она ушла; из мастерской ее уже не было видно. Я решил, что она идет на набережную к подругам. Будь я сейчас там с Эльстиром, я бы с ними познакомился. Я придумывал один предлог за другим для того, чтобы он согласился пройтись со мной по пляжу. Я уже не был спокоен, как до появления девушки в окне, среди жимолости, только что таком прелестном, а теперь опустевшем. Эльстир порадовал меня, но эта радость причиняла мне муку: он сказал, что прогуляется со мною, но что ему надо закончить то, над чем он сейчас работает. Это были цветы, но не такие, портрет которых я заказал бы ему с большим удовольствием, чем портрет человека, — заказал для того, чтобы его гений раскрыл мне то, что я тщетно пытался в них углядеть: не боярышник, не розовый терновник, не васильки, не яблоневый цвет. Эльстир, продолжая писать, говорил о ботанике, но я его не слушал; он перестал интересовать меня сам по себе — теперь он был всего лишь необходимым посредником между девушками и мной; обаяние его таланта, под которым я находился каких-нибудь несколько минут назад, я ценил постольку, поскольку крохотная его частица в глазах стайки, которой он меня представит, могла перейти и ко мне.
Я ходил из угла в угол, с нетерпением ожидая, когда он кончит работать; брал в руки и рассматривал этюды, многие из которых были повернуты к стене или навалены один на другой. Так я обнаружил акварель, относившуюся, по-видимому, к давней поре жизни Эльстира, и она вызвала во мне тот ни с чем не сравнимый восторг, какой расплескивают вокруг себя картины, не только превосходно исполненные, но и написанные на столь необыкновенный и увлекательный сюжет, что часто их прелести мы относим к нему, как будто художнику надо было только открыть эту прелесть, наблюсти ее, уже овеществленную в природе, и воссоздать. Сознание, что такие предметы, прекрасные сами по себе, независимо от того, как их покажет художник, что такие предметы существуют, дает удовлетворение нашему врожденному материализму, опровергаемому разумом, и служит противовесом отвлеченности эстетики. Это (акварель) был портрет молодой женщины, — о ней можно было сказать: она некрасива, но у нее любопытный тип лица, — в чем-то вроде обшитого вишневой шелковой лентой котелка на голове; в одной руке, которую обтягивала митенка, она держала зажженную папиросу, в другой, на уровне колена, — простую широкополую соломенную шляпу для защиты от солнца. Рядом, на столе, в вазочке — гвоздики. Часто — и это как раз относится к акварели Эльстира — своей оригинальностью картины бывают обязаны главным образом тому, что художник писал их в особых условиях, поначалу не вполне ясных для нас: так, может оказаться, что необычный женский наряд — это маскарадный костюм, или — обратный пример: кажется, что старик надел красную мантию, повинуясь прихоти художника, а на самом деле потому, что он — профессор, советник или кардинал. Неопределенность облика женщины, портрет которой был у меня перед глазами, объяснялся, хотя я этого не понимал, тем, что это была молодая, былых времен, актриса в полумужском костюме. Котелок, из-под которого выбивались пышные, хотя и короткие волосы, бархатная куртка без отворотов, под которой белела манишка, — все вместе задало мне задачу: какого времени эта мода и какого пола модель, — словом, я не мог точно установить, что у меня перед глазами, ясно же мне было одно: написано это художником. И наслаждение, какое доставляла мне акварель, портила лишь боязнь, как бы из-за Эльстира, если он задержится, я не упустил девушек — солнце стояло низко, и в оконце били косые его лучи. Ничто в этой акварели не являлось простой констатацией факта и ни одна деталь не была изображена ради ее служебного предназначения: костюм — не потому что надо же, чтобы женщина была во что-то одета, вазочка — не только для цветов. Художник влюбился в стекло вазочки, и оно словно заключало воду, в которую были погружены стебли гвоздик, в нечто не менее прозрачное, чем вода, и почти такое же, как вода, жидкое; в том, как охватывала женщину одежда, была своя особая, близкая ей прелесть, точно промышленные изделия могут соперничать с чудесами природы, могут быть так же нежны, так же приятны для ощупывающего их взгляда, написаны так же свежо, как шерсть кошки, лепестки гвоздики или перья голубя. Белизна манишки, изысканная, как белизна града, с колокольчиками на игривых ее складках, похожими на колокольчики ландыша, озвезживалась наполнявшими комнату ясными отсветами заката, яркими, искусно оттененными, точно букеты цветов, вытканные на белом. Бархат куртки с его перламутровым блеском местами был словно встопорщен, взлохмачен, мохнат и напоминал растрепанность гвоздик в вазе. А главное, чувствовалось, что Эльстир, не думая о том, не безнравствен ли маскарадный костюм для молодой актрисы, — а для нее талант, которым она блеснет в своей роли, наверно, не имел такого значения, как возбуждающая притягательность, которой она воздействует на пресыщенные и развращенные чувства иных зрителей, — ухватился за эту двойственность как за эстетический момент, каковой стоило выделить и каковой он всеми силами постарался подчеркнуть. Овал лица как будто почти признавался в том, что это лицо девушки, в которой есть что-то мальчишеское, потом это признание затихало, дальше снова появлялось, но уже вызывая мысль скорее о женоподобном юноше, порочном и мечтательном, а потом, неуловимое, ускользало вновь. Задумчивая грусть во взгляде производила особенно сильное впечатление по контрасту с кутежными и театральными аксессуарами. Впрочем, невольно приходило в голову, что эта грусть — поддельная и что юное существо, в этом своем вызывающем костюме словно ожидающее ласк, вероятно, нашло, что если оно примет романтическое выражение некоего затаенного чувства, чувства невысказанной печали, то это придаст ей известную пикантность. Внизу, под портретом было подписано: «Мисс Сакрипант, октябрь 1872». Я не мог сдержать свой восторг. «А, пустячок, юношеский набросок, костюм для, ревю в Варьете. Это уже далекое прошлое». — «А какова судьба натуры?» Удивление, вызванное моим вопросом, мгновенно сменилось на лице Эльстира безучастным и рассеянным выражением. «Дайте сюда акварель, — сказал он, — госпожа Эльстир идет, и хотя девушка в котелке никакой роли в моей жизни не играла, — можете мне поверить, — а все-таки моей жене смотреть на эту акварель незачем. Я сохранил ее только как любопытную иллюстрацию театральной жизни того времени». Должно быть, акварель давно не попадалась Эльстиру на глаза, потому что, прежде чем спрятать, он внимательно на нее посмотрел. «Оставить надо только голову, — пробормотал он, — все остальное, по правде сказать, никуда не годится, так написать руки мог только начинающий». Сообщение о том, что идет г-жа Эльстир, убило меня, — значит, мы еще дольше задержимся. Подоконник порозовел. Выходить на прогулку нам ни к чему. Девушек мы все равно уже не встретим — так не все ли равно, долго или недолго пробудет здесь г-жа Эльстир? Впрочем, она ушла довольно скоро. Мне она показалась очень скучной; она была бы хороша, если б ей было двадцать лет и если б она гнала быка в римской Кампанье, но ее черные волосы поседели; она была заурядна, но не проста, так как полагала, что величественности в обхождении и горделивой осанки требует скульптурная ее красота, у которой возраст отнял, однако, все чары. Одета она была в высшей степени просто. Меня трогало, но и удивляло то, что Эльстир по любому поводу с почтительной нежностью, точно самые эти слова умиляли его и настраивали на благоговейный лад, обращался к ней: «Прекрасная Габриэль!» Позднее, познакомившись с мифологической живописью Эльстира, я тоже увидел в г-же Эльстир красоту. Я понял, что определенный идеальный тип, выраженный в определенных линиях, в определенных арабесках, которые постоянно встречаются в его творчестве, определенный канон Эльстир, в сущности, почти обожествил: все свое время, все мыслительные свои способности, словом, всю жизнь он посвятил задаче — как можно явственнее различать эти линии, как можно точнее их воспроизводить. То, что этот идеал внушал Эльстиру, в самом деле стало для него культом, высоким, требовательным, не допускавшим ни малейшей самоуспокоенности; этот идеал представлял собой важнейшую часть его самого — вот почему он не мог отнестись к нему беспристрастно, не мог вдохновляться им вплоть до дня, когда идеал раскрылся перед ним осуществленным вовне, в женском теле, в теле той, которая стала потом г-жой Эльстир и которая наконец доказала ему, — доказать это может только кто-нибудь другой, — что его идеал достоин преклонения, трогателен, божествен. И какое отдохновение в том, чтобы прильнуть устами к Прекрасному, которое до сих пор приходилось с такими усилиями извлекать из себя и которое теперь, таинственно воплощенное, приносило ему себя в дар, награждая его постоянным и плодотворным общением! Эльстир был тогда уже не первой молодости, — в этом возрасте ждут осуществления идеала только от могущества мысли. Он приближался к той поре, когда для возбуждения духовных сил мы нуждаемся в удовлетворении позывов плоти, когда усталость духа, толкающая нас к материализму, и уменьшение активности, связанное с пассивным подчинением различным влияниям, наводят нас на мысль, что, может быть, существуют особые тела, особый род занятий, особые ритмы, которые так естественно претворяют в жизнь наш идеал, что если мы только, даже при отсутствии дарования, воспроизведем движение плеча или поворот шеи, то у нас получится подлинное произведение искусства; это тот возраст, когда нам приятно ласкать взглядом Красоту вне нас, около нас: в гобелене, в чудном эскизе Тициана, найденном у антиквара, в возлюбленной, не менее прекрасной, чем эскиз Тициана. Как только я это постиг, я уже не мог смотреть без удовольствия на г-жу Эльстир, и тело ее утратило тяжеловесность, ибо я вложил в него мысль, что она — существо бестелесное, что это портрет, написанный Эльстиром. Для меня она была одним из его портретов, да и для него, конечно, тоже. Данные, которыми обладает натура, ничего не значат для художника — они для него только повод, чтобы выказать свое дарование. Если нам дать посмотреть один за другим написанные Эльстиром десять портретов разных лиц, то мы сразу же угадаем, что все они принадлежат кисти Эльстира, и это для нас самое важное. Вот только после прилива гениальности, затопляющего жизнь, мозг устает, равновесие постепенно нарушается, и, подобно реке, берущей верх над сильным встречным течением, жизнь в конце концов берет свое. А пока первый период не кончился, художнику постепенно удается открыть закон, формулу бессознательного своего дара. Он знает, какие обстоятельства, если он романист, и какие виды, если он живописец, предоставят в его распоряжение натуру, и пусть эта натура сама по себе будет ему безразлична, но она ему так же необходима для его изысканий, как ученому необходима лаборатория, а художнику — мастерская. Он знает, что создал великие произведения, пользуясь теми эффектами, какие дает притушенный свет, прибегая к раскрытию угрызений совести, которые изменяют представление о вине, изображая женщин, лежащих под деревьями или наполовину погруженных в воду, точно изваяния. Настанет день, когда его мозг будет так переутомлен, что натура, которой пользовался его талант, уже не поможет ему напрячь умственную энергию, — а ведь только из этого напряжения и вырастает его творчество, — и все-таки художник не перестанет гнаться за натурой и будет счастлив сознанием, что она тут, близко, ибо она доставляет ему духовное наслаждение одним тем, что соблазняет его взяться за работу; этого мало: питая к ней нечто вроде суеверного страха, как будто выше ее нет ничего на свете, как будто в ней заключена значительная часть его произведения, в определенном смысле совершенно законченная, он удовольствуется тем, что будет посещать свои модели, поклоняться им. Он будет вести нескончаемые разговоры с раскаявшимися преступниками, угрызения совести и возрождение которых служили в свое время темой для его романов; он купит дачу там, где туман скрадывает свет; он часами будет смотреть на купающихся женщин; он будет собирать красивые ткани. Словом, красота жизни, — выражение, с известной точки зрения бессмысленное, — была той находящейся за пределами искусства стадией, на которой, как я видел, остановился Сван и до которой, вследствие оскудения таланта, вследствие преклонения перед формами, некогда его вдохновлявшими, вследствие стремления избегать малейших усилий, был рано или поздно обречен опуститься такой художник, как Эльстир.
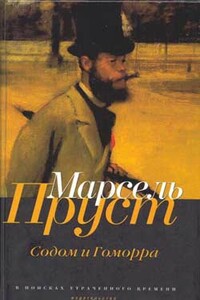
Роман «Содом и Гоморра» – четвертая книга семитомного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».В ней получают развитие намеченные в предыдущих томах сюжетные линии, в особенности начатая в предыдущей книге «У Германтов» мучительная и противоречивая история любви Марселя к Альбертине, а для восприятия и понимания двух последующих томов эпопеи «Содому и Гоморре» принадлежит во многом ключевое место.Вместе с тем роман читается как самостоятельное произведение.

«В сторону Свана» — первая часть эпопеи «В поисках утраченного времени» классика французской литературы Марселя Пруста (1871–1922). Прекрасный перевод, выполненный А. А. Франковским еще в двадцатые годы, доносит до читателя свежесть и обаяние этой удивительной прозы. Перевод осуществлялся по изданию: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu. Tomes I–V. Paris. Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1921–1925. В настоящем издании перевод сверен с текстом нового французского издания: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu.

Роман «У Германтов» продолжает семитомную эпопею французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в которой автор воссоздает ушедшее время, изображая внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».
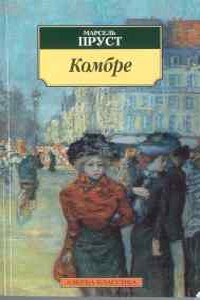
Новый перевод романа Пруста "Комбре" (так называется первая часть первого тома) из цикла "В поисках утраченного времени" опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.Пруст — изощренный исследователь снобизма, его книга — настоящий психологический трактат о гомосексуализме, исследование ревности, анализ антисемитизма. Он посягнул на все ценности: на дружбу, любовь, поклонение искусству, семейные радости, набожность, верность и преданность, патриотизм.
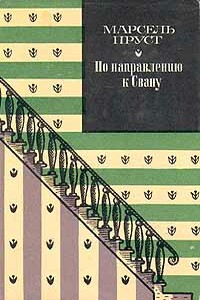
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
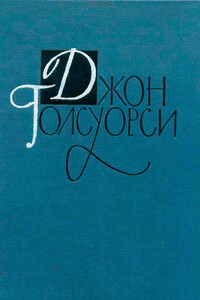
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
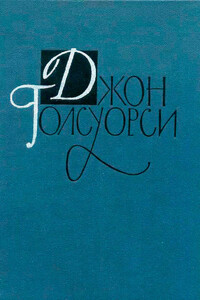
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
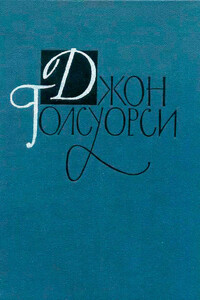
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
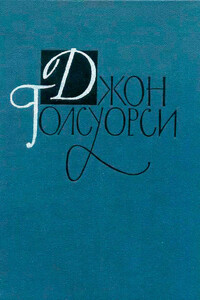
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
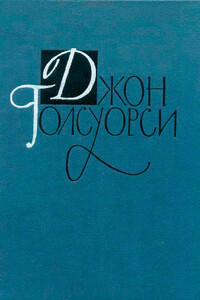
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первый том самого знаменитого французского романа ХХ века вышел в свет более ста лет назад — в ноябре 1913 года. Книга называлась «В сторону Сванна», и ее автор Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что его детище разрастется в роман «В поисках утраченного времени», над которым писатель будет работать до последних часов своей жизни. Читателю предстоит оценить вторую книгу романа «Под сенью дев, увенчанных цветами» в новом, блистательном переводе Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.

Марсель Пруст (1871–1922) — знаменитый французский писатель, родоначальник современной психологической прозы. его семитомная эпопея "В поисках утраченного времени" стала одним из гениальнейших литературных опытов 20-го века.В тексте «Германт» сохранена пунктуация и орфография переводчика А. Франковского.
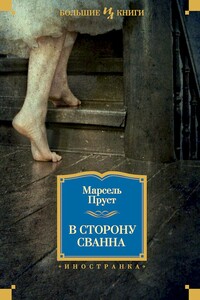
Первый том самого знаменитого французского романа ХХ века вышел в свет более ста лет назад — в ноябре 1913 года. Роман назывался «В сторону Сванна», и его автор Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что его детище разрастется в цикл «В поисках утраченного времени», над которым писатель будет работать до последних часов своей жизни. Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
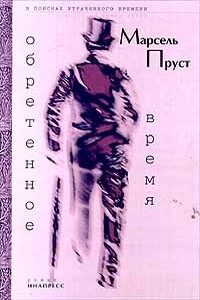
Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.
