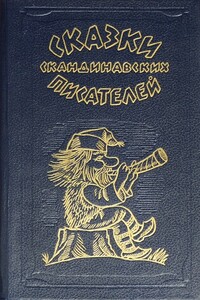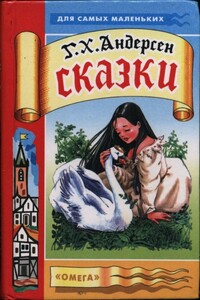Целые сутки пробыл он тут; все тело его просило отдыха. Сделалась оттепель, в долине стояла страшная слякоть и грязь, но на другое утро явился шарманщик, заиграл датскую песню, и Кнуд сейчас же отправился в путь. Много дней шел он, не останавливаясь, торопясь изо всех сил, как будто дело шло о том, чтобы застать в живых домашних. Ни с кем не говорил он о своей тоске, никто не мог и подозревать о его глубочайшем сердечном горе. Да и что задело людям до такого горя — оно неинтересно; нет до него дела даже друзьям. У Кнуда, впрочем, и не было друзей. Чужой всем, пробирался он по чужой земле на родину, на север. В единственном полученном им больше года тому назад из дому письме говорилось: «Ты не настоящий датчанин, как мы все: мы ужасно привязаны к своей родине, а тебя все тянет в чужие страны!» Да, родители могли так писать, они ведь знали его.
Смеркалось. Кнуд шел по большой дороге; в воздухе уже становилось холоднее, а самая почва — ровнее, больше встречалось лугов и полей. У дороги стояла большая ива, и вся окрестность смотрела такой родной, чисто датской! Кнуд сел под иву. Он очень устал, голова его упала на грудь, глаза закрылись, но он ясно чувствовал, что ива ласково склонилась к нему ветвями. Дерево было похоже на могучего, сильного старца… на самого «батюшку»! «Батюшка» нагнулся к Кнуду, взял его в объятия, как усталого сына, и понес домой, в Данию, на открытый морской берег, в садик, где он играл еще ребенком…
Да, это был сам «батюшка» из Кьеге, он пошел искать сына по белу свету, нашел его и принес в садик возле речки! Тут же стояла и Иоганна, разодетая, с короной на голове, какой Кнуд видел ее в последний раз. И она встретила его радостным: «Добро пожаловать!»
Тут же, возле, стояли две чудные фигуры, и все же они походили теперь на людей куда больше, чем во времена детства Кнуда — и они тоже изменились. То были две коврижки: кавалер и девица. Они стояли к Кнуду лицевой стороной и были на вид хоть куда.
— Спасибо тебе! — сказали они. — Ты развязал нам язык. Ты объяснил нам, что нужно свободно высказывать свои мысли, а иначе не будет никакого толку. Ну вот, теперь и вышел толк: мы — жених и невеста.
И они пошли рука об руку по улицам Кьеге и даже с оборотной стороны были ничего себе, вполне приличны. Они направились прямо в церковь, Кнуд с Иоганной — за ними, тоже рука об руку! Церковь ничуть не переменилась, чудесный плющ все так же вился по красным стенам. Главные двери были отворены настежь, слышались звуки органа.
Коврижки вошли в церковь и вдруг отступили в сторону: «Господа вперед!» — сказали они, и Кнуд с Иоганной очутились впереди. Оба преклонили колена, и Иоганна склонилась головкой к лицу Кнуда. Из глаз ее текли холодные, ледяные слезы — это растаял от горячей любви Кнуда лед ее сердца.
Слезы ее упали на его пылающие щеки, и он проснулся и увидал, что сидит под старой ивой, в чужой стороне, в холодный зимний вечер, один-одинешенек… Ледяной град так и колол ему лицо.
— Я пережил сейчас блаженнейшие минуты в моей жизни! — сказал он. — И то — во сне! Боже, дай же мне опять заснуть! — И он закрыл глаза, сладко заснул.
Утром пошел снег, совсем занес его ноги, а он все спал. Сельчане шли в церковь и увидали на дороге мертвого подмастерья. Он замерз — под ивой.