Побережье Сирта - [88]
— …Я дорожу Орсенной даже больше, чем ты, Альдо, она у меня в крови, понимаешь? Во мне больше смирения и покорности, чем в тебе, и я с большей готовностью выполняю все ее пожелания. Будь ты женщиной, у тебя было бы меньше гордыни, — добавила она с нежной настойчивостью в голосе, словно ее устами заговорил вдруг кто-то другой, какой-нибудь дух мрака и решимости, — и ты бы лучше понимал. Женщина, которая выносила ребенка, знает, как это бывает: бывает, что кто-то, неведомо кто, абсолютно неизвестно кто, начинает вдруг хотеть, чтобы что-то свершилось через нее; в этом есть нечто страшное и вместе с тем нечто глубоко успокоительное… Если бы ты умел предчувствовать, как в теле твоем отзывается то, что еще не случилось. Послушай-ка! — сказала она внезапно, и жест ее вскинутой вверх руки отразил зачарованное внимание.
В комнату теперь просачивался шум, приглушенный и в то же время отчетливый, который, казалось, проникал отовсюду; он походил на доносящийся из ночной тиши рокот далекого моря: за дверью слышался голос Мареммы; в сонном забытьи вялого утра гул охваченного лихорадкой дворца казался в тишине каким-то зловещим мурлыканьем и напоминал то ли завывание отдаленного смерча, то ли гудение несметного множества саранчи, то ли непрерывный хруст челюстей миллионов насекомых, вечно что-то грызущих.
— Слышишь? — сказала Ванесса, легко дотрагиваясь своей ладонью до моей руки. — Вот чем заполнена теперь их жизнь… Они меня прощают: я им больше не нужна, они никогда не нуждались во мне. Просто что-то произошло, вот и все; при чем здесь я? Когда порыв ветра случайно приносит пыльцу на какой-нибудь цветок, то в созревающем плоде есть нечто такое, что смеется над порывом ветра. Поскольку порыв ветра уже здесь, внутри, то появляется спокойная уверенность в том, что его никогда не было. Все эти люди никогда не нуждались во мне, а я никогда не нуждалась в тебе, Альдо, и это хорошо, — продолжала она с какой-то глубокой убежденностью. — Когда что-то появляется на свет, в этом нет ничего случайного, и все сразу становится так, будто смотрят на мир только одни-единственные глаза, его глаза, и уже не может быть и речи о том, что когда-то его не было; так что все хорошо.
Последняя инспекция
— Старик Карло умер, — скороговоркой сообщил мне Фабрицио, как только я вошел в свой кабинет в Адмиралтействе. — Его хоронят сегодня после обеда, в три часа. На военном кладбище. Джованни подумал, что ты не будешь возражать. Ты ведь знаешь, здесь такой обычай, — добавил он грустным голосом. — Кстати, Марино очень его любил…
Фраза Фабрицио прозвучала в еще более глубокой тишине, чем подобало этому ожидавшемуся со дня на день известию. Я вернулся из дворца более спокойным, словно на меня снова снизошло умиротворение, словно мне опять передались спокойствие и непостижимая уверенность Ванессы; услышанное известие омрачило для меня это светлое утро. Я вспомнил, что иногда в эти последние, тоскливые дни я подумывал о том, чтобы вновь посетить Ортелло; мне показалось, что одно уже только присутствие рядом со мной этого старика успокоило бы меня, придало бы мне уверенности и что какая-то часть моих тревог перешла бы к нему — без фраз и без усилий. И вот теперь он был мертв; и у меня в ушах снова звучали его последние слова, зачаровывающие, как рука, которую так хочется задержать в своей; мне вдруг пришла в голову мысль, что может быть, что скорее всего он перед смертью так и не узнал. «Рано, конечно, но это случится вот-вот», — сказал он мне; в свете того, что произошло потом, слова старого Карло непроизвольно стали пророческими, а новость в последний момент злобно обошла стороной единственного человека, способного ее понять; в отличие от старика Симеона, которому повезло больше, глаза Карло не увидели того единственного знака, ради которого они и оставались еще открытыми. Я вдруг отчетливо представил себе песок, выровненный на убогой безымянности могил, и по нахлынувшей жалости, по щемящей боли в груди понял вдруг, что тот, кого мы вот-вот похороним, тот, у кого еще и сейчас в гробу продолжала расти короткая и жесткая борода, был отныне более мертв, чем любой из тех, кто, пролежав в земле века, давным-давно превратился в прах.
В Сирте существовал давний обычай хоронить на военном кладбище владельцев больших окрестных хозяйств — с этими хозяйствами в гораздо большей степени, чем с бранными подвигами, исстари ассоциировалась жизнь гарнизона Адмиралтейства. И это было справедливо: еще совсем недавно, до того как утомленный орсеннский мир окончательно воцарился на этих землях, им не раз и не два приходилось отгонять выстрелами наведывавшихся сюда из пустыни последних грабителей. На протяжении долгих лет этой дальней южной окраиной управляло сильное племя солдат-земледельцев, которые твердо и решительно командовали своими подчиненными, более походившими на военных, чем те невзрачные счетоводы, что сменяли друг друга в Адмиралтействе до Марино, — племя это в столь далеких от центра пределах напоминало последние зеленые побеги, которые порой прорастают из земли на большом расстоянии от источенного ствола. Это племя тоже вымерло, угасло, подобно давным-давно угасшим старинным орсеннским родам; мы знали, что сегодня похороним последнего его представителя, и поэтому наша маленькая плотная группа шла погруженная в более глубокое, чем обычно, молчание. С бледно-молочного неба на Сирт лил свой сероватый свет спокойный день, лишь слегка потревоженный приглушенным шумом небольших волн; иногда идущее вдоль берега холодное течение день за днем собирало над морем дряблые, обманчивые туманы, которые, обещая дождь, так его и не приносили, но превращали побережье в зябкую, мокрую пустыню с влажным дыханием больного, которое размягчает мускулы и погружает в сумрак мозг.
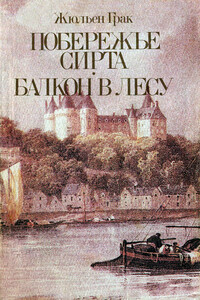
Молодой резервист-аспирант Гранж направляется к месту службы в «крепость», укрепленный блокгауз, назначение которого — задержать, если потребуется, прорвавшиеся на запад танки противника. Гарнизон «крепости» немногочислен: двое солдат и капрал, вчерашние крестьяне. Форт расположен на холме в лесу, вдалеке от населенных пунктов; где-то внизу — одинокие фермы, деревня, еще дальше — небольшой городок у железной дороги. Непосредственный начальник Гранжа капитан Варен, со своей канцелярией находится в нескольких километрах от блокгауза.Зима сменяет осень, ранняя весна — не очень холодную зиму.

«Замок Арголь» — первый роман Жюльена Грака (р. 1909), одного из самых утонченных французских писателей XX в. Сам автор определил свой роман как «демоническую версию» оперы Вагнера «Парсифаль» и одновременно «дань уважения и благодарности» «могущественным чудесам» готических романов и новеллистике Эдгара По. Действие романа разворачивается в романтическом пространстве уединенного, отрезанного от мира замка. Герои, вырванные из привычного течения времени, живут в предчувствии неведомой судьбы, тайные веления которой они с готовностью принимают.
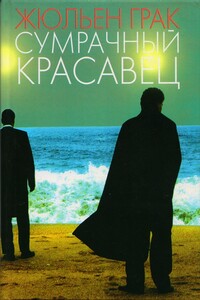
"Сумрачный красавец"-один из самых знаменитых романов Жюльена Грака (р. 1910), признанного классика французской литературы XX столетия, чье творчество до сих пор было почти неизвестно в России. У себя на родине Грак считается одним из лучших мастеров слова. Язык для него — средство понимания "скрытой сущности мира". Обилие многогранных образов и символов, характерных для изысканной, внешне холодноватой прозы этого писателя, служит безупречной рамкой для рассказанных им необычайных историй.

Жизнь в театре и после него — в заметках, притчах и стихах. С юмором и без оного, с лирикой и почти физикой, но без всякого сожаления!

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…