По памяти, по записям - [4]
«Как он мог?» — это доносившееся из соседней комнаты «как он мог» оказалось последним восклицанием, услышанным мной из уст Бунина. Вскоре я его покинул, а на следующее утро, чуть ли не на рассвете, Вера Николаевна позвонила мне по телефону, чтобы сообщить, что «Ивана Алексеевича больше нет». И когда я пришел в знакомую, но сразу же опустевшую, точно оголившуюся, квартиру, он — в соответствии с его очень категорическим предсмертным желанием — лежал уже в столовой на кушетке, с головой, покрытой толстой простыней. Через несколько дней его хоронили на тихом пригородном кладбище, в Сент-Женевье-де-Буа.
Бунин и «Охота на Кавказе»
В тот период моей жизни, который проходил под бунинской кровлей, я, кажется, ничего так не любил, как в летние месяцы прогулки с ним, когда случалось совершать их «с глазу на глаз». Тогда — как начинало темнеть — мы подымались по Наполеоновой дороге до небольшой поляны, у которой эта дорога разветвлялась. Там с наступлением ночи тучами кружились средиземноморские светляки — «лючиоли», своим фосфорическим светом словно озарявшие всю окрестность. Бунин питал к этим миниатюрным созданиям своего рода нежность и мог подолгу следить за их безостановочным кружением.
На поляне, у самой развилки, торчал старый пень, на который он всякий раз усаживался, чтобы отдохнуть, попривере д- ничать по поводу скудости грасской жизни и выразить недовольство тем, что военные события развертываются в слишком медленном темпе. А побрюзжав, он начинал что-то рассказывать, нередко такое, о чем в другой обстановке он едва ли стал распространяться, а то касался литературных тем, делясь мыслями, возникшими у него после того, как он, вероятно, в сотый раз перечитал те несколько книг, которые хранил в своем бельевом шкафу, и которые, кстати сказать, очень неохотно давал на прочтение даже своим домочадцам. Почти неизбежно в какой-то момент он возвращался к ТолстЪму. Без упоминания имени Толстого не обходилась, кажется, ни одна прогулка.
Вспоминается, как при одном из таких вечерних хождений он все жаловался на бессоницу, утверждал, что ему больше не помогает снотворное и добавил, при этом, что как только открывает глаза, начинает думать о смерти и тогда в его памяти невольно всплывает одно из толстовских писем, которое он
словно заучил наизусть, так как мог его цитировать почти безошибочно.
Толстой, как говорил Иван Алексеевич, писал в этом письме, что нельзя уговорить камень, чтобы он падал наверх, а не вниз, куда его тянет и затем — «к чему все, если завтра начнутся муки смерти и «забавная штучка» (Бунин подчеркнул, что это подлинные слова Толстого) — кончается ничтожеством, нулем для каждого из нас».
А в заключение Бунин пояснил, что в этом не перестававшем его волновать письме, адресованном Фету, Толстой описывал смерть своего любимого старшего брата, отмечая, что за несколько минут до конца «Николай задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал — «Да что ж это такое». По толкованию Льва Николаевича, «это он е е увидел — поглощение себя в ничто».
Полет «лючиол» на несколько мгновений перестал тешить Бунина и он почти в страхе произнес: «Эти толстовские слова из письма к Фету я не в силах забыть, все о них думаю, «поглощение себя в ничто», что может быть страшнее?».
Вслед за тем, чтобы рассеять мрачные мысли, и по ассоциации идей вспоминая о дружбе Толстого с Фетом, он стал рассказывать, что прошлой ночью снова перечитывал «Казаков», потому что именно Фет, проведав, что Толстой не намерен кончать начатую повесть, настаивал на ее продолжении и как Толстой шутливо отвечал своему другу «Не искушай меня без нужды / лягушкой выдумки твоей» и что-то еще в том же тоне и только спустя несколько лет внял фетовским увещаниям.
«Кажется, каждое слово в «Казаках» помню, — продолжал Бунин, — а все-таки всегда тянет перечитывать их. Пусть это еще не вполне зрелое произведение, пропитанное идеями Руссо, но в нем уже ясно ощущается толстовский размах, его «почерк». Какие-то дураки в свое время нашли в нем какие-то недостатки, объявили, что повесть, мол, неактуальна, архаична, не разрешает никаких проблем… Ох, эти «проблемы»! IIредоставьет разрешать их Боборыкину! Я бы, кажется, полжизни отдал, чтобы научиться подражать толстовским «промахам». Стоило бы только напомнить описание первого впечатления Оленина от кавказских гор, его слова, что горы и облака имеют одинаковый вид «что-то серое, белое, курчавое и их красота такая же выдумка как музыка Баха или любовь к женщине». А
слово «любовь» Толстой велел набрать курсивом»! Весь Толстой в этом…
Немного задумавшись, продолжал: «А перечитывая «Казаков», только об одном жалел: о том, что одновременно не могу еще раз прочесть «Охоту на Кавказе», о которой вы, наверное,
и не слыхали. Знаем мы вас…».
Я пробормотал что-то невнятное, потому что догадывался, о чем говорит Иван Алексеевич, хотя названного им очерка,
действительно, никогда не читал.
А ведь это подлинно прекрасная вещь, точно стараясь меня в чем-то убедить, — почти с волнением, в голосе воскликнул Бунин. — Да могло ли быть иначе, коли ее автором был такой удивительный человек, как Николай Толстой. Если вам пред* ставится возможность, непременно прочтите эту повесть, даже если вы ничего в охоте не смыслите. Когда я писал мою книгу о Толстом, мне хотелось уделить в ней хотя бы несколько страниц его брату Николаю, но у меня не было достаточно материалов под рукой. Ведь Николай Толстой умер задолго до моего рождения. Мой отец его раз-другой встречал, и говоря о нем, едва удерживал слезы, а ведь сентиментальностью отец не отличался. А кто теперь Николая Толстого вспоминает? Вы толь- ко прочтите, что о нем думали Тургенев и Фет, который в своих весьма непритязательных воспоминаниях писал, что «Николай Толстой был замечательным человеком, про которого мало сказать, что все знакомые его любили — они его обожали». Николай, собственно, бесшумно проводил на практике многие из тех идей, которые развивал его брат в своих теоретических построениях. А Тургенев утверждал, что Николай потому не сделался писателем, что был лишен тех недостатков, которые нужны, чтобы им стать. Вы, конечно, понятия не имеете о том, что эти тургеневские слова Толстой приводит где-то в своих дневниках и вы даже не догадываетесь, как часто я о них думаю. Как же мне быть к ним равнодушным, когда писательство — мое ремесло, и не зря в моем паспорте значится «homme de lettres»! Ведь писательство — единственное, что я по-настоящему умею делать, что меня кормит, не только дает хлеб насущный, но и ту радость, которая помогает жить даже в нынешних проклятых условиях, когда утром не знаешь, что будет к вечеру. Ведь у меня всегда в голове бродит мысль о том, что мне еще осталось дописать, как получше досказать, что было когда-то пережито или чему я был свидетелем — ведь я не выдумщик и не фантазер, и пишу только о том, что знаю. Но, конечно, как у каждого писателя, есть и во мне элемент тщеславия — отпираться не стану — иной раз какая-нибудь паршивая рецензенка выводит меня из себя, хотя я тут же сознаю, что никакого значения она не имеет, моей репутации не повредит, как возвышенные слова не вознесут на Олимп.

Прошло 25 лет с тех пор, как 25 февраля 1957 года, в Ницце, скончался Марк Александрович Алданов.Его многостороннее творчество всегда удивляет читателя исключительной эрудицией в области новой и новейшей истории. О чем бы ни писал Алданов — о 9-м Термидоре, о мартовском заговоре 1801 года, или, наконец, об Октябрьском перевороте 1917 г. — всегда можно убедиться, что он не только использовал почти всю изданную литературу, но и провел немало времени в архивах или в поисках живых свидетелей. Но Алданов был, конечно, не только эрудитом, а и выдающимся мастером в жанре исторического романа.В связи с 25-летием со дня смерти Марка Александровича Алданова А.

Князь Андрей Волконский – уникальный музыкант-философ, композитор, знаток и исполнитель старинной музыки, основоположник советского музыкального авангарда, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал». В доперестроечной Москве существовал его культ, и для профессионалов он был невидимый Бог. У него была бурная и насыщенная жизнь. Он эмигрировал из России в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, и возвращаться никогда не хотел.Эта книга была записана в последние месяцы жизни князя Андрея в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
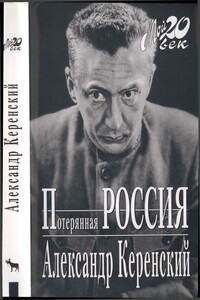
Современному читателю впервые представлены воспоминания и политический дневник Александра Федоровича Керенского (1881–1970), публиковавшиеся с 1920–х годов в русской периодике Парижа, Берлина, Праги, Нью- Йорка. Свидетельства одного из главных участников Февральской революции 1917 года до сих пор остаются в числе самых достоверных источников по истории России.
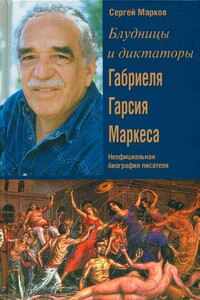
Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.