Пленница - [105]
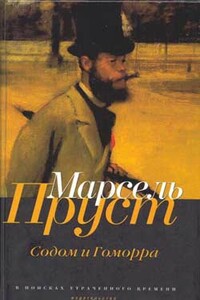
Роман «Содом и Гоморра» – четвертая книга семитомного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».В ней получают развитие намеченные в предыдущих томах сюжетные линии, в особенности начатая в предыдущей книге «У Германтов» мучительная и противоречивая история любви Марселя к Альбертине, а для восприятия и понимания двух последующих томов эпопеи «Содому и Гоморре» принадлежит во многом ключевое место.Вместе с тем роман читается как самостоятельное произведение.

«В сторону Свана» — первая часть эпопеи «В поисках утраченного времени» классика французской литературы Марселя Пруста (1871–1922). Прекрасный перевод, выполненный А. А. Франковским еще в двадцатые годы, доносит до читателя свежесть и обаяние этой удивительной прозы. Перевод осуществлялся по изданию: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu. Tomes I–V. Paris. Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1921–1925. В настоящем издании перевод сверен с текстом нового французского издания: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu.

«Под сенью девушек в цвету» — второй роман цикла «В поисках утраченного времени», принесшего писателю славу. Обращает на себя внимание свойственная Прусту глубина психологического анализа, острота глаза, беспощадность оценок, когда речь идет о представителях «света» буржуазии. С необычной выразительностью сделаны писателем пейзажные зарисовки.

Роман «У Германтов» продолжает семитомную эпопею французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в которой автор воссоздает ушедшее время, изображая внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».
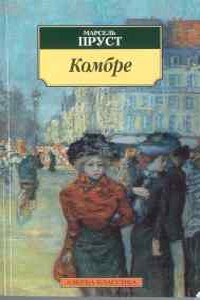
Новый перевод романа Пруста "Комбре" (так называется первая часть первого тома) из цикла "В поисках утраченного времени" опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.Пруст — изощренный исследователь снобизма, его книга — настоящий психологический трактат о гомосексуализме, исследование ревности, анализ антисемитизма. Он посягнул на все ценности: на дружбу, любовь, поклонение искусству, семейные радости, набожность, верность и преданность, патриотизм.
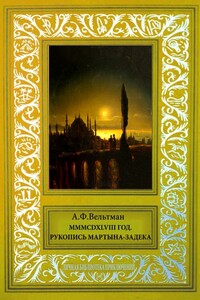
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
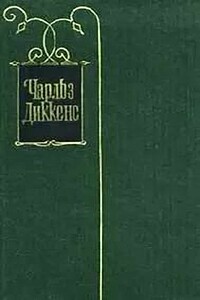
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
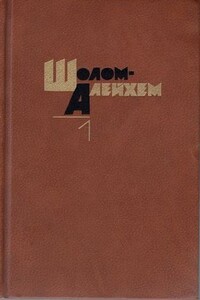
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Марсель Пруст (1871–1922) — знаменитый французский писатель, родоначальник современной психологической прозы. его семитомная эпопея "В поисках утраченного времени" стала одним из гениальнейших литературных опытов 20-го века.В тексте «Германт» сохранена пунктуация и орфография переводчика А. Франковского.
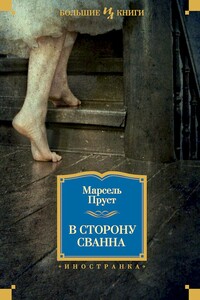
Первый том самого знаменитого французского романа ХХ века вышел в свет более ста лет назад — в ноябре 1913 года. Роман назывался «В сторону Сванна», и его автор Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что его детище разрастется в цикл «В поисках утраченного времени», над которым писатель будет работать до последних часов своей жизни. Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
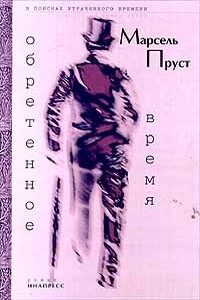
Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.
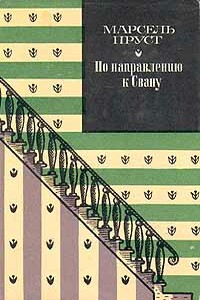
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
