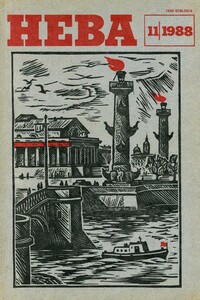Плен - [7]
В восемь утра он был совершенно безумен, но кроток. Точнее — не сразу; конечно, начинал он всегда с высокой ноты, с рыданья, он Никитин, он переводчик, он переплетчик, она — мразь, мразь, за что ему это, бедному Нестратову, она сломала все, все, ВСЕ!
Сначала надо было ответить. И она отвечала — очень тихо, заставляя его прислушиваться, очень тихо, без малейших эмоций — это было важно. Ни ласковости, ни угрозы не было в ее голосе, на снисхождение он отвечал воем, на запугивание сатанинским хохотом. К концу этого клинического месяца она нащупала единственно верную интонацию и теперь автоматически начинала с нее. Он постепенно затихал. Ей казалось, она тушит пожар — то тут, то там сполох пламени, но все тише, тише… Минут сорок он бормотал, там уже могла она начать заниматься своими делами, но тоже с осторожностью, прислушиваясь к стрекотанью на другом конце линии. Она умывалась, причесывалась, ставила кофе — но нельзя было включить телевизор — он свирепел немедленно, он готов был терпеть шум воды или даже рев кофемолки, но другой человеческий голос выводил его из себя. Музыку — если без слов — он сносил. Вешал трубку, умиротворенный. А на следующий день звонил снова.
Это надо было умудриться — стать бесплатным лекарем для психа, бальзамом на его кровавые раны. Но выхода-то не было. Когда месяц назад он позвонил впервые, она испугалась страшно, до истерики, онемела от ужаса и весь день не знала, куда деваться, воспоминания о его безумном тенорке накатывали весь день мутной тошнотой; она перебрала двести вариантов — кто это, откуда, зачем, кто дал ее номер; ей было страшно плохо весь этот день. К вечеру она заставила себя сесть и вспомнить его бредовый текст от начала и до конца. Да, потихоньку, с сигаретой, преодолевая горловые спазмы, что он там говорил, как он там говорил…
И нашла. Неструхин Олег Викторович, он себя назвал однажды, среди Никитиных, Нестратовых, Нечаевых, Максимов Леонидовичей и так далее. Переводчик, перевозчик, перебежчик, переплетчик… Да. Да.
Где-то год назад Сереже понадобился переплетчик. Она наугад спросила в своем издательстве, ей дали какой-то телефон, назвали этого самого Неструхина. Через пару дней Сережа абсолютно между делом, между двумя чашками кофе, сказал:
— Ой, Надь, а переплетчик-то твой псих, кажется!
Она заметила, что он такой же «мой», как и «твой», а что, собственно, такое?
— Да ну, абсолютный шизоид! Попросил две тысячи долларов за переплет восьмидесяти страниц. (Да, да, это Сережка тогда как раз защищал диплом). Но главное, понимаешь, он больной, это просто слышно. Визжит, вскрикивает… Ну его на фиг.
Она согласилась, что безусловно на фиг и немедленно. Переплетчика нашли другого.
А Надин домашний номер отразился у загадочного Неструхина на дисплее мобильника. И вот, сколько-то лет спустя, утром ее разбудило страшное и несчастное кваканье из трубки. Не троньте, не троньте, не ТРОНЬТЕ!
Ей стало немножко легче, когда она его вычислила — неизвестно почему. Назавтра он позвонил снова. Она опять дернулась, правда, не так страшно, как накануне, когда он только выл, хрипел и квакал, и она в спросонном ужасе орала ему, срывая голос: «Дима, это ты? Что-то случилось? Плохое? Страшное? С Аленой? С детьми? Убили?» — и каждое его взрыдывание в ответ слышала как «Да! Да! Да!»
Похоронила всех за эти полминуты. Потом уже поняла, что кто-то чужой, мелькнула мысль, что балуются, но тут же стало ясно, что — нет, так не балуются, такое звериное безумие не сыграешь никогда и ни за что.
Вой перерос в слова, и он понес свое — про то, что она мразь, мразь, надо, надо, надо, НЕМЕДЛЕННО!!
Она упала лицом в подушку и рыдала, захлебываясь, кусая наволочку. Трубка стрекотала рядом, а минут через пятнадцать смолка. Она потом звонила всем-всем и говорить не могла, а только слушала, что они подходят к телефону, раздраженно кричат: але, вас не слышно! — слава Богу, живые.
Второй раз она уже, конечно, не рыдала так безобразно, но ох эта волна тошной жути… Дождавшись мельчайшей паузы, она спросила: что вы хотите?
Он хотел, чтобы она сейчас же, СИЮ ЖЕ МИНУТУ, поклялась, что оставит его в покое и никогда больше не позвонит!
Сейчас она уже понимала, что надо было спокойно и очень тихо говорить — я вам обещаю, даю честное слово, что никогда ни за что вам не позвоню. Это бы не отменило его следующих звонков, но успокоило бы в ту минуту. Но она тогда еще ничего не понимала и закричала базарно и беспомощно: да это ВЫ мне звоните, да какого ж черта, чего-то там милицию…
Милицию… Ох, ну тут она сама виновата.
То ли на четвертый, то ли на пятый день она пребывала в полном раздрае. Ее уже понемногу отпустил первый первобытный ужас, но теперь она отчетливо понимала, что дело приобретает характер хроники. И тут как раз в гости забежал Дима, с которым они теперь виделись редко, а когда все-таки виделись, то она только расстраивалась — такой он был вымотанный на своей работе и так ему было не до нее. А в этот раз он приехал неожиданно — веселый, благостный, с замасленным бумажным мешком — пончики, жаренные в машинном масле, страшный сейчас раритет, увидел и не смог удержаться. Она схватилась за старую ручную кофемолку. И так они хорошо, прямо взахлеб, стали трепаться, выпили галлон кофе, как кашалоты накинулись на эти адские пончики… что в момент какой-то блаженной паузы после трех часов разговору она, посмеиваясь, сказала: а у меня тут вот какая история…

Анна Немзер родилась в 1980 году, закончила историко-филологический факультет РГГУ. Шеф-редактор и ведущая телеканала «Дождь», соавтор проекта «Музей 90-х», занимается изучением исторической памяти и стирания границ между историей и политикой. Дебютный роман «Плен» (2013) был посвящен травматическому военному опыту и стал финалистом премии Ивана Петровича Белкина. Роман «Раунд» построен на разговорах. Человека с человеком – интервью, допрос у следователя, сеанс у психоаналитика, показания в зале суда, рэп-баттл; человека с прошлым и с самим собой. Благодаря особой авторской оптике кадры старой кинохроники обретают цвет, затертые проблемы – остроту и боль, а человеческие судьбы – страсть и, возможно, прощение. «Оптический роман» про силу воли и ценность слова.
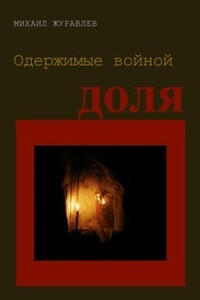
Роман «Одержимые войной» – результат многолетних наблюдений и размышлений о судьбах тех, в чью биографию ворвалась война в Афганистане. Автор и сам служил в ДРА с 1983 по 1985 год. Основу романа составляют достоверные сюжеты, реально происходившие с автором и его знакомыми. Разные сюжетные линии объединены в детективно-приключенческую историю, центральным действующим лицом которой стал зловещий манипулятор человеческим сознанием профессор Беллерман, ведущий глубоко засекреченные эксперименты над людьми, целью которых является окончательное порабощение и расчеловечивание человека.
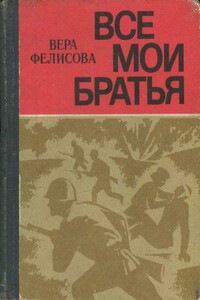
На фронте ее называли сестрой. — Сестрица!.. Сестричка!.. Сестренка! — звучало на поле боя. Сквозь грохот мин и снарядов звали на помощь раненые санинструктора Веру Цареву. До сих пор звучат в ее памяти их ищущие, их надеющиеся, их ждущие голоса. Должно быть, они и вызвали появление на свет этой книги. О чем она? О войне, о первых днях и неделях Великой Отечественной войны. О кровопролитных боях на подступах к Ленинграду. О славных ребятах — курсантах Ново-Петергофского военно-политического училища имени К.
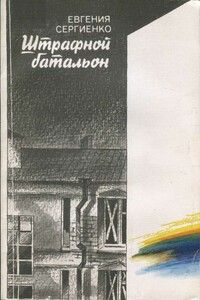
В книге представлены разные по тематике и по жанру произведения. Роман «Штрафной батальон» переносит читателя во времена Великой Отечественной войны. Часть рассказов открывает читателю духовный мир религиозного человека с его раздумьями и сомнениями. О доброте, о дружбе между людьми разных национальностей рассказывается в повестях.

Главная героиня повести — жительница Петрозаводска Мария Васильевна Бультякова. В 1942 году она в составе группы была послана Ю. В. Андроповым в тыл финских войск для организации подпольной работы. Попала в плен, два года провела в финских тюрьмах и лагерях. Через несколько лет после освобождения — снова тюрьмы и лагеря, на этот раз советские… [аннотация верстальщика файла].
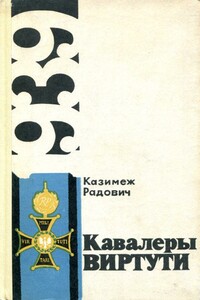
События, описанные автором в настоящей повести, относятся к одной из героических страниц борьбы польского народа против гитлеровской агрессии. 1 сентября 1939 г., в день нападения фашистской Германии на Польшу, первыми приняли на себя удар гитлеровских полчищ защитники гарнизона на полуострове Вестерплятте в районе Гданьского порта. Сто пятьдесят часов, семь дней, с 1 по 7 сентября, мужественно сражались сто восемьдесят два польских воина против вооруженного до зубов врага. Все участники обороны Вестерплятте, погибшие и оставшиеся в живых, удостоены высшей военной награды Польши — ордена Виртути Милитари. Повесть написана увлекательно и представляет интерес для широкого круга читателей.